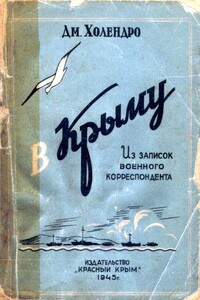Зимняя война | страница 125
Они важно шли по улице, после выступленья в кино, курили, черные очки Стива поблескивали в свете фонарей. О чем музыкант его спросил?.. «Ты знаешь, Стив, я как пьяный после пантомимы. Я точно не помню, что я делал до Войны. Изучал иностранные языки. Я был способен к языкам. Занимался историей безвинно погибшей Царской Семьи. Ведь эта гибель так рядом с нами. Сколько слухов, сплетен. А никто достоверно ничего не знает. Пытался раскрыть тайну расстрела адмирала Колчака… пил чай с его женою, с Анной Тимиревой… с девками крутил направо-налево — такой я бойкий был… молодой, бешеный… да, что-то еще было, конечно… каратэ-до, нунчаки?.. да, фарцовка какая-то, фарцевал я отчаянно, мотался по стране… Россия великая… большая… скрыться всегда можно, спрятаться, если что… И все равно меня что-то жадное изнутри глодало, как ржа. Геройства хотелось. Отваги. А тут — бац! — призыв. Зимняя Война, и нас увозят в эшелонах под Новый Год, под Рождество, и по улицам Армагеддона елки, перекрученные шпагатами, несут, мандарины в сетках тащат. Я ведь из Сибири явился в Армагеддон… мне здесь все знакомо. Я… не хотел умирать. Но я… хотел на Войну. Мне Война, Стив, казалась очищеньем… геройской музыкой, фанфарной. Я не представлял, что это… кровь, грязь… И я туда загремел. В средостенье ужаса. Ну вот, видишь, жив остался.» Он захохотал, понарошку бодро скаля зубы, показывая кому-то невидимому язык — как в пантомиме. Стив нашел слепой и чуткой рукой его руку, больно стиснул. «А я, видишь, калека был, а потом выздоровел, и меня взяли туда, и я тоже знаю, что такое умирать под пулями. Я умер дважды. Второй раз — когда опять зренье потерял.» — «Брось. Ты еще прозреешь. А мясо у тебя дома какое — вареное, жареное?..» — «Жареное. Инга пришла, пожарила.» — «Женись на Инге. Она тебя любит. Она сестра милосердия.» — «Х.й она меня любит!» Стив засмеялся безрадостно, сухо, будто защелкали костяшками. «Она за заботу обо мне деньги получает в обществе „Милосердие“, жалованье свое кровное. А со мной она притворяется, чтобы я ее не изнасиловал или не пристукнул, когда она ко мне приходит готовить, чинить мои нафталинные пиджаки или капать мне в глаза эти капли… черт, забыл названье. Я для нее — инвалид Зимней Войны. И все. И все, ты слышишь!» Лех пожал плечами. Выбросил окурок в снег. «А мне Инга нравится. Она такая нежная, вся нежная, как ромашечка. Девушка-ромашка». — «Ну вот и сам женись на ней».
Они вразвалочку подошли к подъезду. Дверь была настежь, наотмашь распахнута. В черной гнилой внутренности подъезда шевелились, вздрагивали люди — о, да совсем детки, девочки, мальчики: тусовка что надо, на морозе холодно, а здесь — благодать, шарфы размотали, шапки положили на батарею — греться, сами — курево в зубы, бутылки — вон из-за пазух, и складными ножами пробки отгибать, и присасываться к горлу, как к торчащей девичьей груди. Лех и Стив ввалились в черноту парадного, и Лех не растерялся, завопил нарочито-устрашающе: