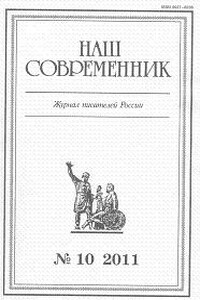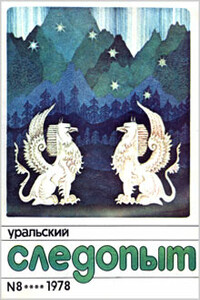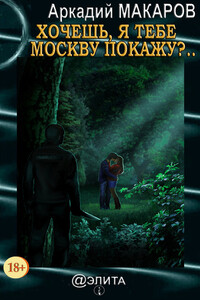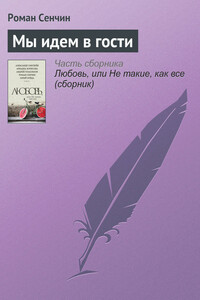Наш Современник, 2007 № 03 | страница 21
Николай Сергеевич был прекрасно образованным человеком, великолепно знал всё о музыке, а о великих композиторах и исполнителях мог рассказывать так, будто он был их собеседником при их жизни. Но у него были и глубокие познания в богословии и святоотеческой литературе. Мы с ним много раз говорили о православии, об угрозе экуменизма и сатанизма, о толкованиях Апокалипсиса, и меня поражало то, что он неизменно находил светлую сторону любой проблемы, был уверен в конечном торжестве добра над злом. Думается, без этого внутреннего стержня он не смог бы создавать свои произведения, очаровывающие нас и сегодня именно в силу заложенного в них светлого начала.
Порой сами события в музыкальной жизни наводили нас на обсуждение проблем, связанных и с политикой, и с религией. Помнится, зашла речь о “Литургии оглашённых” композитора Рыбникова, в которой использованы тексты Евангелия, Будды, Магомета, западных философов. Николай Сергеевич резко отрицательно относился к покушениям на чистоту веры, а в данном случае закончил свои размышления вопросом: “Далеко ли от таких опусов до идеи мирового правительства, до идеи мировой религии?”
Лебедев — советский человек
В окружении Лебедева в его студенческие годы было немало диссидентствующих юношей и девушек, попадались и диссиденты постарше, но его эти веяния никак не затронули. Художников-диссидентов Лебедев не одобрял, считая, что их поведение — это политиканство, которое не красит творческого человека. Сетования на цензурный гнёт он отвергал, заявляя: “Запреты существовали всегда. Но во все времена, в том числе и во времена “великих деспотий”, всегда были художники, своим талантом и гражданской, а не политической позицией привлекавшие слушателей”.
У меня есть все основания утверждать, что Лебедев был вполне советским человеком. Правда, он никогда не показывал своей приверженности власти, отвергал лестные и материально выгодные предложения написать “официоз”.
Лебедев не искал и не жаждал никаких наград и почестей, не участвовал в конкурсах, даже считал это недостойным для творческого человека, ведь “искусство — не спорт, где все призы получает тот, кто быстрее бегает или выше прыгает. Художники могут быть разные и замечательные по-своему”. По его убеждению, “самая большая награда для художника — любовь слушателей и уважение исполнителей”.
Советскую политику в области образования и народного просвещения и систему воспитания художественных кадров Лебедев ценил чрезвычайно высоко. По его словам, тогда по всей стране целенаправленно отыскивали талантливых детей, создавали музыкальные интернаты, школы-десятилетки при консерваториях и другие специальные художественные учебные заведения с прекрасной материальной базой, туда привлекали лучших педагогов. В этих школах возникла творческая атмосфера, там учились одержимые дети, которые подчас вставали в четыре часа утра, чтобы до начала занятий порепетировать, отточить мастерство. Страна покрылась сетью Дворцов культуры, университетов культуры, лекториев, библиотек, возникло множество кружков, народных театров, самодеятельных оркестров, спортивных сооружений. В каждом городе был драмтеатр, в крупных городах — даже оперные (самые дорогостоящие) театры. И всё это было доступно всем желающим, даже в Большой театр — на хоры — билет стоил 30 копеек. То, что можно было представить себе где-нибудь при дворе Медичи для очень узкого круга избранных, было в каждом крупном советском городе. Далеко не все использовали эти уникальные возможности, но это уже другой вопрос, связанный с природой человека…