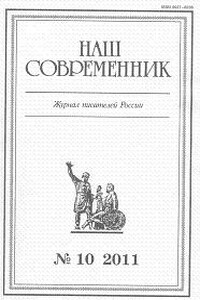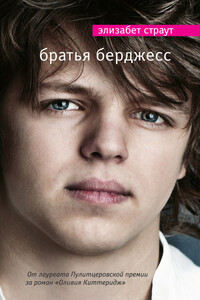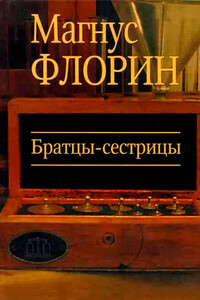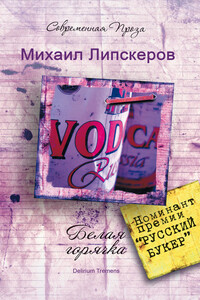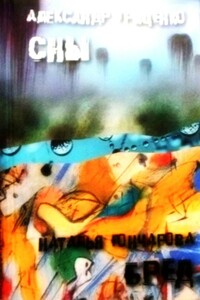Наш Современник, 2007 № 03 | страница 19
Этим объясняется и стопроцентный её контакт с публикой. Если музыку Рахманинова мы воспринимаем благодаря совершенству формы, красочности палитры, то при восприятии песнопений Чеснокова слушатель полностью отрешается от этих проблем, целиком отдаваясь воздействию выраженного в музыке молитвенного настроения, особой — духовной — чувствительности. Считаю, напрасно церковники упрекали его за пышность, чрезмерную чувствительность”.
Упрёки критиков, осуждавших Чеснокова и Гречанинова за преувеличенную эмоциональность, “оперную” напыщенность стиля, неуместную, по их мнению, в духовной музыке (эту точку зрения разделяют и некоторые из наших современников), Лебедев считал несправедливыми: “Чесноков, Гречанинов страдали более от сухих регентов, чем от претензий малоодарённых композиторов-графоманов, композиторов-гармонизаторов канонических распевов. А теперь их, равно как и всех других авторов музыки, рассчитанной на подлинно духовный, непосредственный контакт со слушателями, осуждают композиторы, музыканты, которые свои модернистско-эстетические устремления и средства, наработанные в светской музыке, пытаются перенести в музыку церковную…”
Но Лебедев не был и рабом церковной традиции, он не считал, что чем ближе музыка к глубокой старине, тем лучше: “Для русской духовной музыки важна, конечно, и византийская традиция, прерванная в петровскую эпоху. Возрождение её произошло на рубеже XIX и XX веков. Однако ретроспекции к знаменному распеву мне не нужны. Они интересны как музейный документ, их полезно слушать, но если все начнут писать в стиле знаменного распева, это будет очень скучно. Я считаю необходимым исходить в своём творчестве из достижений нашей духовной музыки начала XX века, а не возвращаться к её средневековым истокам”.
На замечание, что другие современные композиторы используют знаменный распев, Лебедев возражал: “Они дают старинные распевы в очень опосредованном, переработанном, живом виде, а простое цитирование мне представляется мертворождённым”.
Вскоре после переезда в Москву Лебедев познакомился с хоровым дирижёром Валерием Максимовым. Чутьё музыканта и потомка регентов подсказало Максимову, что призвание Лебедева — писать духовную музыку. По просьбе Максимова Николай Сергеевич написал три номера из “Литургии святого Иоанна Златоуста”. Максимов же и стал первым исполнителем духовных произведений Лебедева.
После этого духовная музыка стала основным жанром в творчестве композитора до самой смерти. Им написаны “Литургия”, “Всенощная”, “Святые Страсти Господни” и ряд других сочинений, в том числе “Акафист преподобному Тихону Лусскому, всея России чудотворцу” в честь возрождения основанного им в 1498 году Свято-Николо-Тихонова монастыря. Работал он и над акафистом одному из величайших и наиболее почитаемых русских святых преподобному Серафиму Саровскому. Прекрасную музыку сочинил Лебедев на два стихотворения Георгия Поляченко (“Ангел” и “Молитва”).