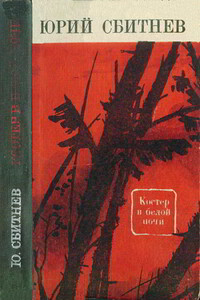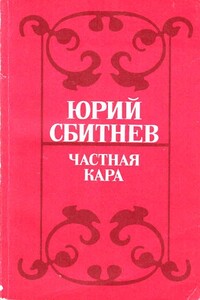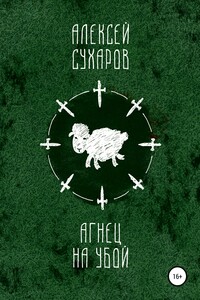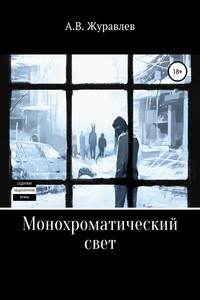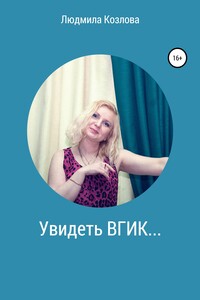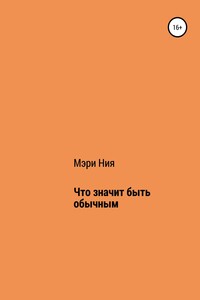Эхо | страница 67
В памяти народа из каких-то очень древних глубин сохранилось, что железные птицы и раньше клевали их землю. Но прилетали они тогда поодиночке в разное время, не шибко тревожа таежных людей, а вот тогда (30 июня 1908 года) прилетели всей стаей.
Ганалчи тоже говорил о железных птицах, но что-то недоговаривал, словно бы оставляя место и для чего-то более важного.
Академика Вернадского крайне заинтересовало сообщение о «железных птицах». Но его уверили, что это всего лишь плод крайней фантазии эвенков, которые весьма подвержены ареальному мышлению.
Но однажды один случайный попутчик по самолету, дедушка Галкин, которого я по просьбе его дочери доставлял из Иркутска на Нижнюю Тунгуску, развил передо мной удивительную теорию.
Дедушка прожил в крохотном поселении, почти что заимке, на берегу таежной речки Дёмы семьдесят восемь лет, единожды отлучаясь на империалистическую войну и еще раз, когда вздумал пожить в Иркутске у дочери.
– Воздух не тот. Надо на родной воздух, – рассказывал он о причине, которая заставила его в восемьдесят два года совершить обратное свое путешествие из Иркутска на Дёму.
Так вот дедушка Галкин, сидя у иллюминатора АН-2, вдруг поманил меня и сказал, показывая за борт на землю пальцем:
– Гляди-ко, вот это, эвенки говорят, птицы небесные выклевали.
Под крылом самолета лежала земля в негустом подбое тайги, среди которой голубели бесчисленные озера. Многие из них были округлой правильной формы, словно бы воронки от бомб или жерла небольших вулканов. На них и указывал дедушка Галкин.
– Было время, рассказывают, дожжом летели. Упаси бог под такой клювик попасть…
Я подумал, что, вероятно, этот громадный, почти безлюдный край был подвергнут когда-то метеоритной активности. И что блюдечки нынешних озер не что иное, как воронки, оставленные крупными метеоритами.
– Люди говорят, – продолжал философствовать дедушка Галкин, – шупали, шупали, а потом как ахнули в девятьсот восьмом-то… Страсть!
– Кто щупал? – удивился я столь неожиданному повороту в мыслях деда.
– А кто его знает?! Не по нашему уму – кто!
За движением Тунгусского Дива дедушка наблюдал. Но, кроме решительного: «Видел, видел… и не дай бог еще увидеть», – от него добиться ничего нельзя было.
– К нам, что ли, пойдете? – спросил он, когда мы прилетели в северный Ербогачен. Тут у него были дети, внуки и правнуки, но собирался он ехать дальше, «к своему воздуху» – на Дёму.
Я поблагодарил старика, пообещав, что остановлюсь у него на Дёме, но встретиться нам больше не пришлось.