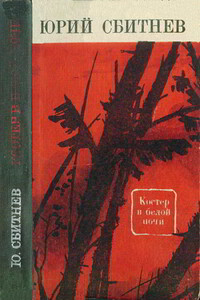Эхо | страница 10
Мороз слабее вчерашнего, и можно вроде бы вжиться. Кипит и позванивает воздух, и все вокруг словно бы размыто, окутано то ли дымом из нашего очага, то ли туманом.
Пробую идти едва заметным следом. Нымгандяк стоит на крошечной плешинке среди скалистых останцев, окруженный непроходимыми зарослями мелкой лиственки. Продираюсь сквозь эти заросли, а впереди густые еловые замети, трудно стоит черная тайга. Сюда не подъехать на оленях, да и пробраться сюда трудно. Путаюсь в молодых лиственках, в ползучей березке, а впереди, перед ельниками, бадараны – кедровый стланик, некогда спаленный пожаром.
Вроде бы и свыкся с морозом. Но это кажется. Стужа, как удар, неожиданный и вовсе вроде бы безболевой, его и не ощущаешь. Но вдруг почувствовал сразу, что оглушен, не хватает воздуха, давит на виски, и в ушах вместе с тоненькой звенью какая-то ватная глухота.
Оборачиваюсь к только что оставленному чуму и замираю, пораженный.
Там, на взлобочке, на каменной плешинке, средь густого малолесья стоит направленная в небо ракета. Струится вокруг предстартовый дымок, вот-вот и умчится, сокрушив громом и огненной вспышкой тайгу, устилая деревья… Что за наваждение?!
И вижу рядом Ганалчи. Лицо закуржавлено, парка в белой снежной кухте. Спешу к нему, спрашиваю, задыхаясь от мороза:
– Нымгандяк?
– Да. Пойдем, парень, хирбу есть. Сидим у костра завтракаем.
– Ганалчи, разве можно было идти сюда? Нымгандяк – это всегда тайна. Так?
Ганалчи пьет чай крохотными, экономными глоточками.
– Чего нет – прийти нельзя, – отвечает.
– Но мы тут?
– Мороз, – вздыхает. – Куда деться? Замерзать нельзя. А нымгандяк нету. Улетел. Туда. – И Ганалчи поднимает палец, указывая на хонар, где медленно восстают звезды.
И это «улетел» с тем, что привиделось мне там, на воле, вовсе добивает меня. «Не надо об этом, не надо», – говорю я себе. Все, что происходит сейчас, происходит, когда мороз приближается к минус шестидесяти. Я все еще в каком-то сне. И не было странного видения… Но если Ганалчи говорит, пусть, пусть будет так: нымгандяк улетел…
Мы долго молчим, и я, достав тетрадь, начинаю писать. Ганалчи с уважением смотрит, как я это делаю, и неторопливо раскуривает трубочку.
Я пишу, Ганалчи курит и думает.
Спрашиваю осторожно:
– Нымгандяк старый?
– У-у-у, шибко старый… Никто не помнит.
Я с удивлением гляжу на него, смотрю вокруг. И тренога и другие слеги, из которых собран остов, совсем еще свежие, и олдакон не прогнил… Он понимает.