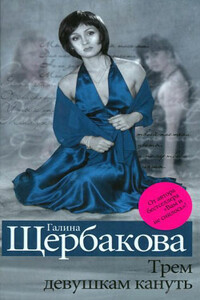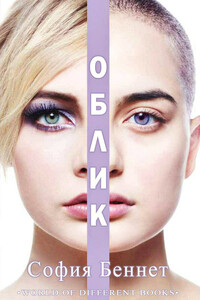Вспомнить нельзя забыть | страница 22
Медсестра смотрела на Марину побуждающе – ждет каких-то слов еще.
– Я это не забуду, – говорит Марина единственный ответ, который знает.
Аля вздохнула, глаз сверкнул насмешкой.
– Свои люди – сочтемся, – ответила она.
В словах было столько смыслов, что Марина подумала: Мне тридцать семь, ей двадцать два, но сколько вместили эти пятнадцать лет. Или, может, наоборот – смели с лица земли?»
В тот год, год дефолта для всех, а для них – беды с Олечкой, бабушка Анна Петровна собиралась замуж. Ей было пятьдесят восемь, она продолжала работать в полиграфическом техникуме. Учила молодежь искусству верстки и была абсолютно независимой и гордой. То, что из Загорска приходилось ездить на работу на электричке, с некоторых пор перестало забирать силы. В ее жизни появился Семен Моисеевич, у него была машина, он тоже работал в Москве, ему только пришлось поменять ради Анны собственное расписание. «Без проблем», – сказал он. Он был директор престижного ателье пошива, его бизнес шел гладко, уверенно. Это было старое-престарое ателье, где помнили талии родственниц Косыгина и длину брюк брежневских мужчин, а теперь их портными не гребовали новые русские, чьи животы и талии не всегда смотрелись в итальянском и французском, а вот в их, московском, было самое то.
Семен был вдовец, жил один. Анна была вдова, жила одна. Они оба любили МХАТ и «Современник», обожали Рязанова и книгой их юности был роман «Над пропастью во ржи». Теперь про наше время говорят – над пропастью во лжи. И хоть Анна Петровна абсолютно согласна с сутью искажения, все равно где-то щиплет в сердце. Как это в классике: «Испортил песню, дурак!»
Та, шестилетней давности жизнь кажется Анне Петровне какой-то сказкой, которую словами рассказали, а чтоб подарить книжку для чтения, для полного владения – так нет. Горе так тщательно вымело из ее жизни радость и надежду, что даже сожаления не осталось. Еще какое-то время Семен Моисеевич держал ее на близком расстоянии и возил в Москву вне своего расписания, а когда ей было надо, спасибо ему и низкий поклон. Но когда он, как у них было принято раньше, хотел у нее остаться, ее охватил сначала ужас, а потом непреодолимая тошнота. Будто весь ее организм встал на дыбы против возможности отношений наслаждения. Там, в больнице, лежит искромсанное дитя. Седой, как лунь, сын. А она, старуха, будет встанывать от оргазма?
Она так сказала «нет», что Семен Моисеевич как бы все понял. Но он не понял. Хуже того, он оскорбился и даже сказал что-то типа «…даже в Освенциме». С тем и ушел, а она тогда подумала, что Освенцим во всяком случае понятнее. Фашизм. Но здесь, сейчас, при знании того ужаса совершить ужас еще ужаснее… Смешно сказать, она его больше не видела. Такая оказалась слабая корневая система у МХАТа и «Современника», Рязанова и Сэлинджера вместе взятых. А вскоре умерла Женя, погиб сын. Собственно, его гибель пририсовала точку к уже, в сущности, умершему человеку.