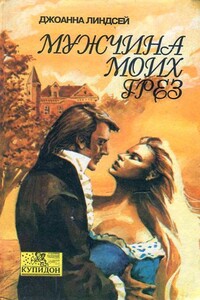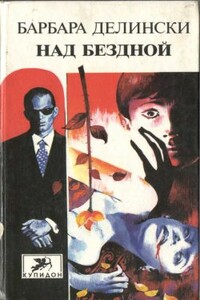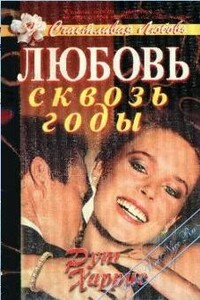Последние романтики | страница 2
Вот только если бы он мог придумать и сказать что-нибудь вразумительное!
Ким направлялся – как и весь Париж и, казалось, весь мир – на Елисейские поля, где должно было состояться официальное провозглашение мирного договора, – война, наконец, кончилась. Молодой человек пересек запруженную транспортом улицу Монтань в самом центре квартала, размышляя о материале, который собирался написать (и это будет коронный результат его поездки в Париж!), как вдруг едва не наскочил на нее. Девушка была молода, примерно одного с ним возраста, цвет ее волос напоминал густой мед, освещенный солнцем, а глаза были цвета золотистого топаза. Казалось, ее окружала золотистая аура. Одета она была весьма элегантно – просто, но со вкусом, и, в довершение ко всему, она подметала тротуар. Ким остановился так близко, что смог бы, если бы только захотел, протянуть руку и дотронуться до нее, и в эту минуту он почувствовал аромат свежайших цветов. Но ведь стоял ноябрь месяц! В самом сердце Парижа уже не найти букета! Мирный договор будет провозглашен в одиннадцать – одиннадцатый час одиннадцатого дня одиннадцатого месяца должен принести удачу, и Ким, стоя лицом к лицу с ней и вдыхая аромат цветов, который, как он скоро догадался, принадлежал ее духам, подумал, что день этот не просто удачный, но прямо-таки волшебный. Сверкнувшая на улице Монтань золотая молния пригвоздила его к тротуару, он замер, потеряв дар речи. Когда он очнулся от потрясения, нужные слова пришли к нему сами.
– За Францию! За мир! За любовь! – сказал он, протягивая ей бутылку шампанского. – Разве вы не выпьете за это!
– В девять тридцать утра? – Она улыбнулась: это было и умно, и восхитительно. Он знал, что именно так она должна улыбаться! И с этой улыбкой она продолжала подметать тротуар своей очень европейской метелкой – из прутиков, связанных вместе крепкой бечевкой. Уборщик отмечал наступление мира в стране и утром не появился, так что Николь занималась сейчас его делом.
– Ваша хозяйка, должно быть, настоящая людоедка, если заставляет вас работать в такой важный день. – Ким показал на черную вывеску с золотыми буквами «Николь Редон», висевшую справа от чугунной решетчатой двери с ослепительно сияющей ручкой. – Редон, должно быть, изрядная дубина, – уточнил Ким. – Но даже она не посмеет отругать вас, если в честь праздника вы выпьете глоток шампанского…
Николь продолжала подметать, пытаясь отвести от него взгляд, и не могла… не могла… На нем были узкие брюки из пике, делавшие его стройные ноги еще длиннее; мягкую серо-голубоватую шерстяную блузу, весьма подходившую по тону к его глазам, схватывал тяжелый пояс с тяжелой металлической пряжкой – германский трофей, – и пестрый твидовый пиджак. Длинный плащ-полушинель, сплошные складки и пряжки, наброшен на плечи. Он был высок – чуть повыше шести футов, – и в его теле чувствовалось прекрасное соотношение мускулов и плоти. Лицо, отмеченное загаром, привлекало сильными и одновременно утонченными линиями. А чистые голубые глаза были на редкость выразительны, полны жизни и любопытства. Рот казался чувственным и всегда готовым улыбнуться. По-французски он говорил довольно бегло, но с отчетливым акцентом, – впрочем, у него хватало ума не скрывать свой американский выговор, а Николь всегда нравились американцы, так уж была устроена ее душа…