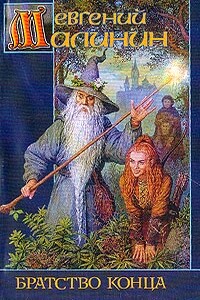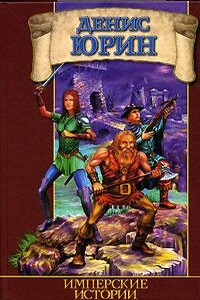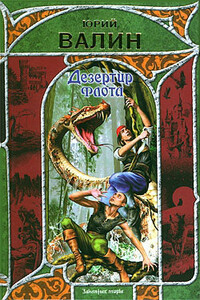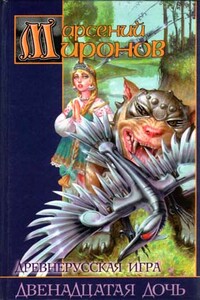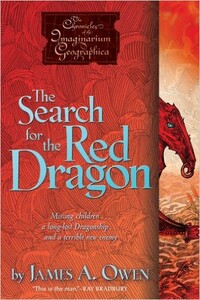Украшения строптивых | страница 52
Латники с серыми от каменной пыли лицами, жмурясь, попятились… Огненный клубок шаровой молнии раздулся до размеров детского воздушного пузыря и тихо поплыл вдоль оледенелой каменной стены.
— Быстрее, быстрее, — сладко зашептала Потравница, приближаясь. Протянула тонкую черную руку: огненный шарик мягко скользнул ей в ладонь, как пузырь с теплой водой! Искусственное солнышко словно прилипло к этой ладони — даже изменило цвет: из солнечного золота в платиновую лунь. Жуть… пальцы Потравницы, прилипшие к поверхности шара, насквозь лучатся розовым светом: просвечивает быстрая кровь и хрупкие птичьи кости.
— Хорошо, хорошо! — шепчет Маринка. — Восхитительное, настоящее золотое яблоко богини Идунн… Теперь мне нужно второе. Твоя очередь колдовать, великий Штефан! Запевай свою песню, зажигай еще одно солнце — да погрознее, покрупнее!
Визжащие вилы-босоркани совсем близко. Собираются в стаю, виясь над водой, вспенивая желтые брызги и визжа, словно боевые обезьяны воинственного бога Раджпахмурти перед атакой.
— Братишка… А что нужно делать, чтобы зажечь такое солнышко? — тихо спросил я Славейку. Он сидит рядом — Потравница не услышит…
— Да дурное-то дело нехитрое… — выдохнул Славейко, отдуваясь и отирая пот с горячего лба (я с ужасом заметил, что кожа на его лице облупилась, как от солнечного ожога). — Вдохни побольше запаха и пой про солнце… Оно и возникнет.
— Запаха? — быстро переспросил я.
— Ага… Чуешь? — Слепой парнишка шумно втянул носом воздух и заулыбался. — Это смрад горного любистока, что растет в подземных пещерах Траяна. Мой дед называл его «дохновенной травой». Дед говорил, что только этот запах оживляет вещуньи мечты. Без него — мертвы наши песни.
Славейко говорил еще что-то, но я и так все понял. Уже вдохнул этот восхитительный аромат меда и горячего металла, легкую взвесь серебристой морской соли и сухой горчичной пыли фиванских пирамид, громокипящую смесь пурпурного сока мандрагоры и скользкого пряного имбиря… Так пахнет медвяное млеко вальгальской козы Хейдрун, смешанное со слюной юной красавицы Гуннлед. Я и раньше чуял его, принимая за тяжелый дух гнилого подземного моря. Но теперь — чувствуя, как сухо покалывает в дрожащих ноздрях — вполне узнал его, этот аромат. Любеке. Аленький цветок поэтов и волшебников. Он пахнет внутренностями любимой женщины, вообразил бы Набоков. Имеет вкус казацкого сыра, яванского рома и сожженных писем, утверждал бы Пушкин. Отдает зеленым порохом, сохнущими чернилами и окалиной на каминной кочерге, писал Бунин. Космической пылью пополам с дешевой пудрой танцовщицы Ля Галетт, признавался Лотрек. В нем тягучая сладость масла из раздавленных облепиховых зерен, жидкое золото в глазах молодой легавой суки на низкой стойке. Мерзость тщеславия и горечь ранней паранойи, липкий пот Пегаса и сладкая губная помада его, Пегаса, прародительницы — медузы Горгоны. Аленький любекс, горный сельдерей… Невидимая пыльца вызывает приступ горячего и сладострастного вдохновения. «Обыватель грез» — так называли его друиды в ролевой игре «Betrayal in Kharkov». «Эликсир вдохновения» — неточно определяли некромансеры из игры «Мандат Поднебесья». «Фебова навь» — уточняли средневековые алхимики, соскабливая драгоценные пылинки с усиков редчайшего трехсотлетнего мотылька, пойманного мавританскими пиратами у подножия Геркулесовых столпов.