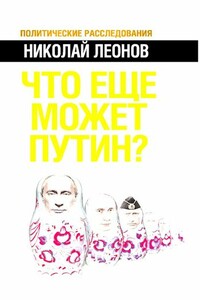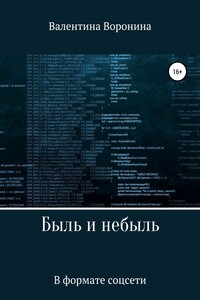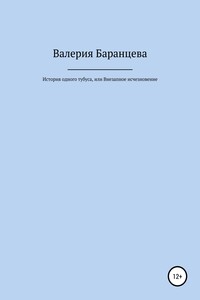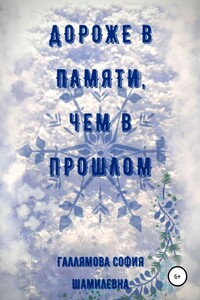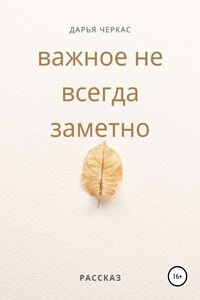Наш Современник, 2006 № 12 | страница 68
— Борис Владимирович, говорят, вы против моего сценария.
— Какого сценария?
— Ну, того, что я хочу ставить в объединении “Дебют”.
— И знать не знаю, и ведать не ведаю, что вы собираетесь снимать в “Дебюте”. А сценарий не читал и читать не буду. Мы объединение создали для того, чтобы молодой художник снимал что хочет и как хочет. Решайте все с руководителем объединения. Если место есть, ставьте картину, какую хотите.
Кому понадобилось сталкивать нас лбами? Никаких отношений у меня с Иваном Дыховичным не было, я и в лицо его не знал. И кому хотели нагадить — мне, ему? Скорее всего, мне. Я уже давно отлавливал мелкую, а то и крупную клевету в свой адрес, узнавал, что там-то и там-то я говорил то-то и то-то, а я там-то и не был и то-то не говорил.
А однажды гадость сделали откровенно. Мы принимали картину одного интересного режиссера — фамилию не стану называть, он сделал немало хорошего для кинематографа. Картина, как всегда, была яркая и интересная, и вдруг под финал дана нарезка кадров, по сути, повторяющая сюжет картины. Я удивился:
— Зачем вы это сделали? Боитесь, что зритель не поймет? Фильм ясный, без загадок. Могу хоть сию минуту акт подписать, но нарезку я бы убрал.
— Ладно, я подумаю.
Через какое-то время узнаю, что в Доме кино состоялась премьера, и после просмотра режиссера упрекнули, зачем, мол, нарезка, и так все ясно. Он, глазом не моргнув, соврал:
— Павлёнок заставил сделать…
Как говорят, придет коза до воза, и режиссер появился у меня в кабинете. Я, понятное дело, задал вопрос:
— Зачем вы в Доме кино меня оклеветали?
И он, опять же, глазом не моргнув и не покраснев даже, объяснил:
— Нарезку мне мастер присоветовал, и я не мог сказать об этом, чтоб не подводить мастера.
— Кто мастер?
— Юлий Яковлевич Райзман.
— Значит, мастера нельзя выставлять перед публикой дураком, а Павлёнка можно?
Он потупил глаза. И только. Даже не извинился.
Актерское братство ярко проявлялось в работе тарификационной комиссии, которую я возглавлял. Комиссия устанавливала ставки оплаты творческим работникам. Членами ее были наиболее авторитетные режиссеры, актеры, операторы. Назову лишь несколько имен: Сергей Бондарчук, Евгений Матвеев, Станислав Ростоцкий, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Герасимов, Всеволод Санаев, профессор ВГИКа Анатолий Головня, Лев Кулиджанов… Первоначальная тарификация проходила на студиях — в творческих секциях и студийных тарификационных комиссиях, потом материалы поступали в Госкино. Наиболее частые фильтры были на студиях — там каждый умел считать копейки в чужих карманах, кроме того, денно и нощно бдили экономические службы, зажимающие каждый рубль. Я относился к повышению ставок более либерально. Во-первых, творцы получали зарплату только во время работы над фильмом и, бывало, месяцами и годами находились в простое. Во-вторых, ставки были, в общем-то, мизерными. Самыми обездоленными являлись актеры — всегда на выданье, всегда в ожидании — возьмут ли на роль? Однажды некая, скажем, Марь Иванна из министерства финансов, пытаясь урезать нам ассигнования, упрекнула: транжирите деньги на зарплату — Бондарчук, мол, вон сколько получил за последнюю картину, а я горбачусь те же восемь часов за сто сорок рублей. Но Бондарчук, возражаю ей, один в трех лицах — сценарист, режиссер, актер. Если вы способны выступить в трех лицах — милости просим на студию, будете зарабатывать, как Бондарчук. Только учтите, что, находясь в простое, не получите ни копейки. Но Марь Иванна была непреклонна. Тогда я попросил студию дать официальный расчет заработка Сергея Федоровича за последние пять лет, и вышла среднемесячная зарплата 130 рублей, даже на сотню меньше, чем у Марь Иванны.