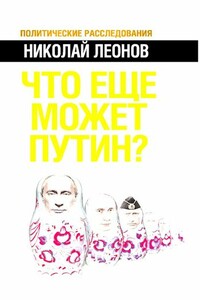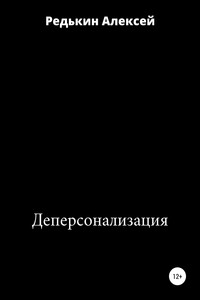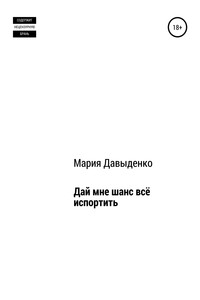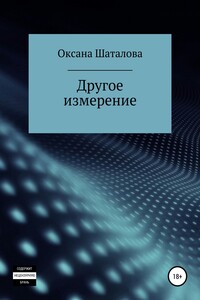Наш Современник, 2006 № 12 | страница 45
Машеров сохранял прежний стиль бережного отношения к кадрам, а в практических делах порой бывал поспешен. Непродуманным было его решение перейти в официальной переписке и публичных выступлениях на белорусский язык. Я далек от того, чтобы обвинять Машерова в сепаратизме. Полагаю, что нелепую идею вдул ему в уши кто-то из белорусских писателей. Не исключаю, что одной из причин опрометчивой реформы стало головокружение от популярности. Машерова народ чтил, и ему, вероятно, захотелось подчеркнуть государственный суверенитет Белоруссии. Несомненно, сказался и дурной пример “самостийников” в соседней Украине, где даже в ЦК с нами, “москалями”, пытались говорить по-украински. Доходило до нелепостей. Из газеты “Колгоспне сило” в Башкирию послали письмо на украинском языке и получили, естественно, ответ на башкирском. “Колгоспники” с ног сбились, пытаясь найти переводчика, и стали посмешищем среди газетчиков.
…Однажды Мазуров послал меня в город Крупки, чтобы уладить конфликт между властями и населением. Там взамен развалюхи построили прекрасную типовую школу, но 1 сентября никто в нее не пришел, а все потянулись в соседнюю развалюху. Оказалось, что преподавание в новом дворце просвещения будет вестись на белорусском. Никакие уговоры не дали результата. Практичные мамаши и папаши рассуждали просто: ну, окончит наше дитя белорусскую школу, и дальше пределов республики ему хода нет. На родном языке мы говорим дома. А если любимое чадо захочет учиться в Москве, Ленинграде, Свердловске, Киеве — как будет сдавать экзамены?
Конфликт улегся, а Петр Миронович подогрел его. Порой происходили вещи нелепые. Помню, как на одном из совещаний секретарь Могилевского обкома партии Нина Снежкова с бойкостью необыкновенной читала по бумажке речь на белорусском. Было жалко слушать, как она путала слова, сбивала ударения и, всегда остроумная и веселая на трибуне, на этот раз тараторила с деревянной интонацией, будто иностранка. Особенно забавно было слышать ленинские цитаты, переведенные на белорусский, словно бы не он писал. Меня всегда повергало в недоумение: во всем мире признаком культуры считалось цитировать философа ли, политического деятеля на языке оригинала, а в Белоруссии, где русский знали одинаково с белорусским, библиотечные полки были забиты переведенной классикой марксизма-ленинизма. Притом языкового запаса в белорусском не хватало, и тексты изобиловали словесными новоделами, которые сами требовали перевода. Большинство томов старели на полках библиотек, оставаясь ни разу не востребованными.