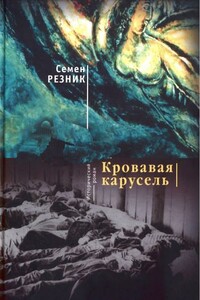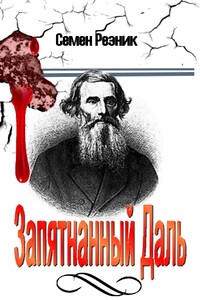Владимир Ковалевский: трагедия нигилиста | страница 24
Потом арест на границе далекого от революционной деятельности Ветошникова, вызвавшегося доставить на родину тайную корреспонденцию.
Арест Чернышевского, Николая Серно-Соловьевича и многих других за «сношения с лондонскими пропагандистами»...
И хлынувшая за границу волна «молодой эмиграции»...
Понятно, с каким напряженным вниманием, тревогой и болью следили за событиями Герцен, Огарев и их ближайшее окружение, в котором далеко не последним человеком стал Владимир Ковалевский. Через несколько лет, оскорбленный возникшим против него подозрением, Владимир Онуфриевич напоминал Герцену:
«Я вам был достаточно известен в течение пяти лет и горжусь тем, что если и имел с кем-либо политические дела, то никто из имевших со мной дело никогда не был арестован по моей вине или неосторожности. Сопоставьте с нынешними обвинениями то, что я знал в подлинности все Михайловское и Шелгуновское дело, что я знал провозивших прокламации, из которых никто не был арестован, что я знал Якубовича и его первый проект, а после и второй, что я отдал и последние деньги и паспорт, чтобы выручить из Лондона Трубецкого, где он погибал, что я знал и видел приезд известного вам раскольника к Кельсиеву, что я собирал и дал сам Кельсиеву все имевшиеся у меня деньги и знал цель его поездки, — сопоставьте все это с тем, что никто из этих лиц не арестован, — и всякому разумному человеку ответ ясен».
В этом отрывке не все расшифровано.
Неизвестно, например, кого из «провозивших прокламации» имел в виду Владимир Онуфриевич и с какими проектами приезжал к Герцену Якубович; загадочна судьба Трубецкого, уехавшего из Лондона с деньгами и паспортом Ковалевского.
Но многое, о чем Владимир Онуфриевич напоминал Герцену, известно.
В ноябре 1861 года в Лондон приехал Поликарп Петрович Овчинников — он же Коломенский старообрядческий епископ Пафнутий. Живя в английской столице, он вел себя с крайней осторожностью. Всего раз или два, когда не было посторонних, он посетил Герцена и, кроме Кельсиева, общался только с двумя-тремя самыми надежными и доверенными людьми. А то, что к этим доверенным относился и Ковалевский, видно не только из его письма, но также из «Исповеди» Кельсиева. Повествуя о горячем споре Поликарпа Петровича с сотрудником Вольной русской типографии Мартьяновым и выставляя Мартьянова (ко времени написания «Исповеди» он погиб на каторге) в самом невыгодном свете, Кельсиев писал:
«Мартьянов бледнел, кусал губы, становился язвителен и не мог простить мне