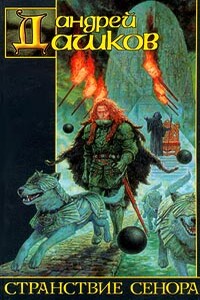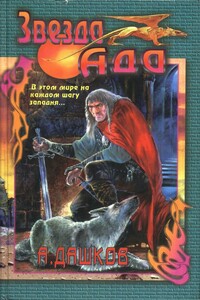Двери паранойи | страница 117
У этих маньяков из «Маканды» наверняка хватило ума оцепить весь район, поэтому я не обольщался. Рано или поздно мне придется выйти из трущоб, и хорошо бы сделать это ближайшим вечером – у меня уже сводило желудок от голода. Впрочем, ощущения были неоднозначные: тошнота, колики, какое-то набухание внизу живота, короткие вспышки резкой боли… Может, вообще все напрасно, и я сдохну скоро от уникальной разновидности кишечной инфекции? О больнице я не смел и думать – попасть туда было равносильно самоубийству. Волку – волчья судьба. И собачий конец. Так что беги, волчара, беги. Подальше от всех, в самую мрачную чащу, – пока не закончилась облава.
По этому поводу уважаемый мною Э.Л. Мастерс, чью книгу я четыре года хранил в больничной тумбочке, высказался несколько иначе – разродился изящной эпитафией, которую я с беззастенчивостью и наглостью душевнобольного украл для своего неизящного повествования (понимайте как эпиграф):
…
«Ум ангела»! Ну и претензия! Во-первых, что бы это значило? Во-вторых, хорошо это или плохо?…
Бэм-с! Повернув за угол, я врезался в разоренную и поваленную набок телефонную будку. Говорил же: надо поменьше думать и повнимательнее смотреть. Впитывать миазмы большой помойки, которая зовется городом; следить за уродливыми тенями, крадущимися в отдалении; ловить немузыкальное эхо. И тогда все будет хорошо – до самой смерти.
Я попал в переулок, посреди которого торчала старая водокачка – черный обелиск из полузабытого сна, пограничный столб зловещей страны. Я инстинктивно подался в другом направлении, оставив темный знак за спиной. Сколько заброшенных двориков, сколько печатей индивидуализма, сколько мертвых судеб, законсервированных в ставших ненужными предметах!
Искалеченный детский велосипед – напоминание о трагедии пятнадцатилетней давности. Пронизанная солнцем акварель в сломанной рамке – глоток лета посреди бесприютной осени. Горшки, полные перегноя. Надпись на заборе – короткое предложение, заключившее в себе раздавленную страсть. Втоптанные в землю клавиши аккордеона – как выбитые зубы. И деревья, которые все-таки дождутся весны…
В некоторых предметах до сих пор гнездилось зло; другие были словно взяты из старого рваного фильма о счастливой любви, уютном доме, доброй семье. Но почему-то добро всегда принадлежало прошлому, а зло – будущему. О добром можно лишь вспоминать с печалью; зла нужно опасаться… и ждать его прихода.