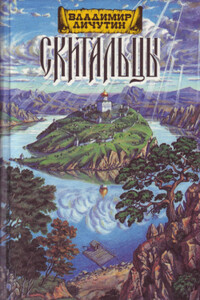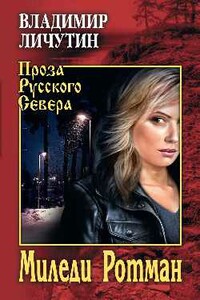Любостай | страница 20
Трое суток попадали на моторе до покинутой деревни. А каково было прежде на шестах толкаться, да с кладью? Но жили вот, не томились тягостной работой наломился до посиненья, в бане десять потов спустил и опять как новый гривенник.
И все три дня бусил дождь, пакостный ситничек: наплывет откуда-то из-за гор легкий туманец, словно костер развели, потом засинеет по-над головою, бурак налетит с ветром, выполощет землю торопливо, нахлестом, а после долго не может успокоиться морось, такая касть, пылит и пылит. Приплавишься к берегу, чтоб под елкой схорониться, в пояс чертоломная таежная трава, и сразу насквозь мокр, будто выкупался, и уже не рад, что полез в жирную поросль. Все кругом каплет, нигде схорону-затулья, и одному бы Бурнашову пропасть тут, прямая погибель. Но водитель их на второй день ожил, с костлявого бронзового лица сошли тупая задумчивость и невыразимая тоска, в глазках уже просверкивало, он даже кожаную шапчонку сбил на затылок. Викентий был словно прикован к мотору, и махорная сосулька не выпадала изо рта. Немко-немтыря сидел за рулем, порою плавающая улыбка блуждала на губах, когда особенно горячилась Лизавета. Давай мели, емеля – говорил весь его временами оживающий вид. Веня медленно, трудно выбирался из хмельной памороки. Он неожиданно гасил мотор, ловко прижимал лодку к берегу. «Пора брюхо чайком попарить», – бросал он скороговоркой и вновь умолкал на несколько часов. Он привык к одиночеству в бродячей лесовой жизни. В этой мокряди, в насквозь протекшей моховой тайге он умудрялся скорехонько сообразить костерок: выискивал сушину наметанным глазом еще с лодки, с реки, потому и приставал. Надирал связку бересты – и вот уже завилось в дождевой мгле, запарило, зашипело, проклюнулось робкое пламя и заиграло, воткнут мытарь, закипает в котелке вода, ошкерена, распластана еще живая рыба, поспевает та редкостная семужья уха, которую может сообразить лишь потомственный северный рыбак.
Бурнашов тоже кидался помогать, он больше всего боялся выглядеть лентяем, байбаком: он горячо тыкался в каждое дело, но получалось из рук вон плохо, нескладно как-то, отчего Бурнашов мучился еще более. От усердья намокнет до шеи, выдирая из бурелома валежину, а той на поверку грош цена в такое ненастье. Хмыкнет Викентий да отворотясь лишь покажет пальцем в сторону: «Кинь туда. Каменный уголь будет».
Обидно тебе, Бурнашов, признайся? Да нет, чего обижаться. Тут какое-то иное чувство, теплоты и дружелюбия, редко навещавшее прежде, не отпускает тебя при виде надежного спутника. Бурнашов будто освобождался от накипи, от вязкой горечи, не отпускавшей его сердце в последние годы, и наполнялся устойчивостью и верой. Вид смышленого, бойкого в работе человека не только утешает и радует взгляд, но и крепит нас на миру. Может, тогда и навестила впервые мысль поселиться в деревне, вернуться в то лоно, откуда когда-то бежали его предки.