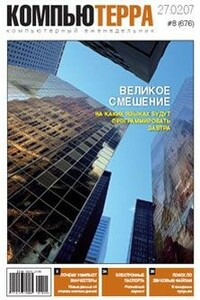Компьютерра, 2007 № 35 (703) | страница 50
Существует гипотеза о захватнических кампаниях сапиенсов: лучше социализированные, они легко побеждали неандертальских охотников-одиночек и в конце концов вытеснили их. Другая гипотеза утверждает, что сапиенсы и неандертальцы долго жили бок о бок. Ведь в пещерах не видно никаких скачков при переходе от неандертальской к сапиентной культуре, будто люди бережно сохраняли наследие предков, кем бы те ни были. Наконец, есть предположение, что азиатская популяция неандертальцев, в отличие от европейской, все-таки могла скрещиваться с сапиенсами и в конце концов полностью смешалась с пришельцами. Эта смелая гипотеза основана на некоторых находках человеческих костей древнего возраста, имеющих смешанный комплекс неандертальских и сапиентных признаков. Остается подождать, пока генетики не расшифруют побольше генов неандертальцев и древнейших сапиенсов. А пока слишком мало данных, чтобы уверенно судить о том, как вели себя наши древние предки на новом месте. Будем надеяться, что более мирно и воспитанно, чем их потомки.
Есть ли прогнозы о дальнейшей эволюции человека?
А.М.: Прогнозы тут ненадежны, факторов слишком много, и мы заведомо знаем далеко не все. Но кое-что сказать можно. Например, эволюционная судьба вида сильно зависит от его численности. Если численность высока, а изолированных популяций практически не осталось, эволюция резко замедляется. Новая мутация не может быстро распространиться на все материки, на миллиарды живущих ныне людей. Даже если она дает какие-то серьезные преимущества, для этого понадобится очень много времени. Быстрые эволюционные изменения происходят в маленькой изолированной популяции. Посадите группу людей на необитаемый остров и не трогайте их в течение миллиона лет. Когда вы придете посмотреть, что получилось, – скорее всего вас встретит новый вид.
Долгожданный новый человек!
А.М.: Вот именно. В реальности же за последние 20—30 тысяч лет строение организма, строение мозга не меняется. Разве что одни генетические варианты становятся более распространенными, нежели другие (на языке генетики – меняются частоты аллелей). Например, лактаза, фермент, который расщепляет молочный сахар, образуется только у младенцев. Поэтому практически все взрослые когда-то не могли пить молоко. Но вот появилось животноводство, и в тех районах, где оно было особенно развито (в Северной Европе, например), мутанты, у которых этот фермент продолжал работать во взрослом возрасте, получали преимущество – они лучше питались, быстрее росли, производили больше детей. Сегодня в Китае, других странах Азии, где нет традиционной культуры молочного животноводства, 70—80 % взрослых людей не могут пить цельное молоко. А в Швеции – наоборот, почти все могут.