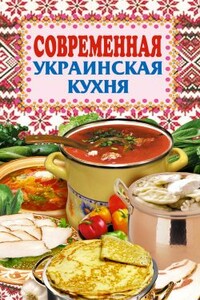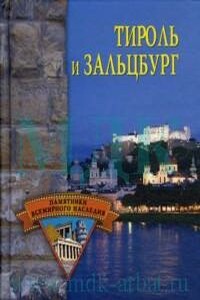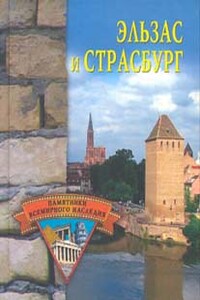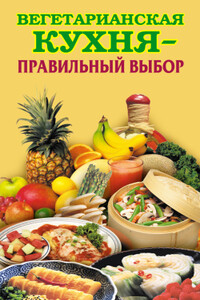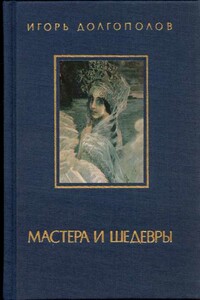Архангельское | страница 28
Двухэтажный господский дом в Архангельском в целом хранит в себе черты классицизма и по канонам этого стиля является центром архитектурного ансамбля.
Южный фасад дворца
Неизвестно, правильно ли княжеский зодчий сориентировал углы, но «сильнейшие ветры» не оказали на здание никакого воздействия. Сегодня всякий посетитель может видеть почти все то же, что видел Николай Борисович: античный портик над низким крыльцом, старинные фонари в промежутках между стеклянными дверями, стены с высокими окнами в белых рамах наличников, бельведер, с которого вся усадьба видна целиком, как на плане де Герна.
Боковые фасады дворца смотрятся богато и живописно по сравнению со скромным главным. Оформляя самую заметную – центральную – часть постройки, архитектор проявил аскетизм, чему можно было бы удивиться, если не знать, что в ином случае ему не удалось бы так эффектно разместить 3 портика. Броские сами по себе, они выделяются на лишенном украшений фасаде, подчеркивая разнообразие объемов здания и заодно прибавляя ему красоты. Невысокие колонны 2 крайних портиков служат обрамлением дверей, открывающих путь на боковые крылечки, где лежат каменные львы. Средний портик, достигая крыши, удостоверяет важную роль этой части здания. Декоративные колонны южного – паркового – фасада отступают от стены на 2/3 объема, выделяя и без того заметный полукруглый выступ. Мягкими формами, куполом и застекленными дверями он походит на беседку, что сближает дворец с парком, а значит, делает его частицей природы.
Въездная арка, так удачно замкнувшая парадный двор, появилась почти одновременно с лифтом, устроенным по воле хозяина в самом дворце: диковинная для того времени подъемная машина двигалась с помощью… рук юсуповских крепостных. Этим закончилось оформление Большого дома, а вскоре завершилась и работа Стрижакова.
Вспоминая судьбу этого замечательного мастера, трудно не отметить горький, но, к сожалению, типичный для крепостной России факт: великолепие Архангельского складывалось из жизней тех, кто его создавал. Напряжение послевоенных лет сильно подорвало здоровье Стрижакова: летом 1819 года крепостной зодчий заболел и написал прошение об освобождении от всех работ. Однако барин, передав стройку другому, велел тяжело больному человеку, «чтобы хлеб даром не ел», выдавать дворовым вино. Осенью он умер, как оказалось, от туберкулеза. Юсупов устроил своему лучшему мастеру пышные проводы, не пожалев для погребения 100 рублей. Еще более щедрое «вспомоществование» было оказано вдове, получившей от князя 172 рубля 75 копеек.