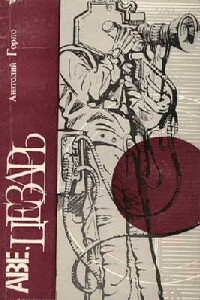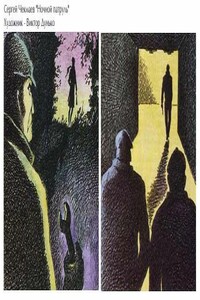Счастливый конец света | страница 66
Нет, не с Буфу надо поговорить, а с Дваэн.
3
Разговора не получилось.
Она была настроена игриво, слушала рассеянно, то и дело закрывая мне рот поцелуями, которые каждый раз становились все длительнее к изощренее. В такой ситуации говорить о серьезных вещах было нелепо. Сначала это меня раздражало, но вскоре она заставила меня забыть о тройках да и вообще обо всем на свете…
Когда я очнулся, ее уже не было. На столике лежала записка:
«Линктусик! Я согласна возглавить нашу тройку. Условие – беспрекословное подчинение! Допотопчик уже дал свое добро. А ты?
Твоя Ндушечка»
Я чувствовал, что меня опять одурачили. Казалось бы, надо радоваться, ведь исполнилось то, к чему я стремился, причем гораздо быстрее, чем я мог предположить. Однако меня не устраивал сам процесс исполнения: если Допотопо согласился войти в Нашу тройку, почему он не сказал мне об этом? Почему Дваэн не давала мне говорить, хотя сказать было что? И наконец «беспрекословное подчинение» – как это понимать? Опять превратиться в безропотного исполнителя «что прикажете?» Я представлял нашу тройку как содружество единомышленников, у которых нет друг от друга тайн и которые, полностью доверяя друг другу, могли бы действовать как одно целое, обезопасив себя от возможных козней со стороны других троек. Вышло же совсем иное, и мне опять предлагается роль мальчика на побегушках. Роботы, вон, и те обижаются, когда им кажется, что кто-то посягает на их чувство собственного достоинства, но я ведь не робот, черт меня побери!
Зашифровывая эту запись в бортовом журнале и, следовательно, перечитывая ее, я обнаружил, что после того, как мы стартовали с Триэса, со мной творится что-то неладное (а, может быть, наоборот, это стремление к ладу?). Наступило если не прозрение, то, во всяком случае, какое-то, надеюсь, не временное, просветление. Мне уже не хочется жить бездумно, точнее сказать, я уже не могу жить как прежде. Во мне пробудилось, казалось бы, навсегда угасшее чувство беспокойства за все, что делаю я, за все, что творится вокруг меня. На Триэсе я постоянно подчинялся чужой воле, у меня всегда были поводыри – Допотопо, Нда или Триэр. Если заглянуть дальше, в отрочество, проведенное в детском приюте, меня и тогда не покидало чувство, что на мне строгий ошейник, шипы которого больно впивались в глотку всякий раз, когда я пытался посмотреть по сторонам, и буквально душили меня, когда я делал шаг в сторону от начертанной наставниками линии поведения. И лишь теперь, на борту «Лохани», готовой в любую минуту развалиться и выбросить нас, как мусор, в открытый космос, я вдруг ощутил, что избавляюсь от «ошейничьего синдрома»…