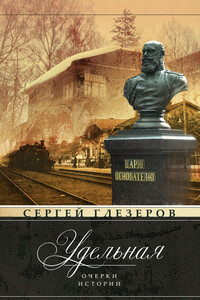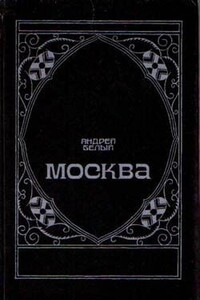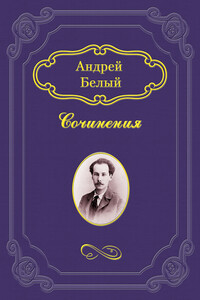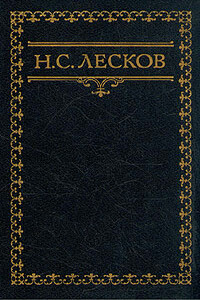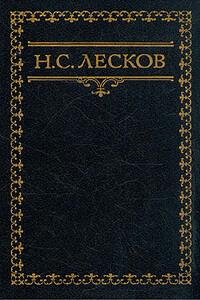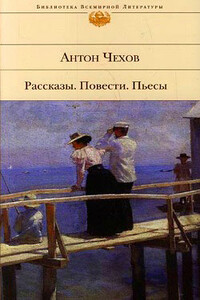Москва под ударом | страница 24
Ткнул пальцем:
– Комплексия: штука обычная. И – бросил он тело:
– Дела… А Коковский, Коковский-то!…
– Что?
– Трепанация!…
– Черепа?
– Опухоль мозга.
– Да что вы!
– Ну, – я проколол позвоночник: подвысосать жидкости; воздухом столб позвоночный надул… Обнаружилось, – и завертел стетоскопом…
– Ну? И?
– Обнаружилась опухоль мозга… Да, да: пол-Москвы в инфлуенце… Ну – нет: мне пора…
И Георгий Григорьевич – в дверь: лбом о лоб с Задопятовым.
Бедный старик прибежал растаращею, в плещущей крыльями, клетчатой, серо-кофейной крылатке, с полураспущенным зонтиком в левой руке; был он бел, как паяц, и морщинист, как гриб, выдаваясь ужаснейшей сизостью очень опухшего носа (как будто он пил эти дни); он плясал неприятно пропяченной челюстью; зонтик ходил ходуном в его левой руке, когда, правой рукою схватясь за Надюшу, он выдохнул с громким усилием:
– Где?
– Дз-дз, – кокнул осколок стекла у него под калошею.
– Вы осторожнее: тут… Спохватилась:
– Тут… тут… вот сюда… И потупилась:
– Тут – кислота…
– Где она? – ничего он не понял; и так, не снимая крылатки, в калошах ввалился в гостиную с полураспущенным зонтиком; сел пред запученным телом, схвативши за ногу его:
– Анна!…
– Аннушка!…
Не было «Аннушки»: пучилось мыком – большое, багровое «О»!
Тут профессор Коробкин подкрался к плечу его теплой ладонью, как… к… мухе: «Никита Васильевич, вы, – трепанул по плечу, – ты мужайся, брат», – взлаял он.
«Ты» проскочило вполне неожиданно: точно он вспомнил совместные годы гимназии, угол в клопах, куда хаживал часто со Смайльсом в руках «Задопятов», соклассник, – к «Коробкину», к «Ване»:
– Еще, чего доброго, брат, – Анна Павловна встанет!
14
И дождь, Сверкунчишко Терентьевич, затеньтеренькал по крыше; и стал переулочек не Табачихинским, а Сверкунчи-хинским; Камень Петрович стал Камнем Перловичем; камни и крыши испрыскались дождичком.
Забирюзовались воздухи.
Желтый просох исклокочился травкой; заширился топольный воздух везде; и потом уже только раскрылась сирень; и сиреневый запах душил переулки; стояло дзененье комариков в серо-зеленые сумерки сада; и щелкало птицею; первая ласточка, забелогрудяся, взвизгнула: взвесилась в воздухе.
Стало тепло и пленительно.
Но безобразней валили бульваром безрылые толпы; из желтого гарева бухали меди оркестра. И кто-то, одевшися в летнепикейные брюки и в пестрый пиджак, с белоснежной панамой, зажатой в руке, подмахнув камышовою тросткою, несся – и несся и несся – в открытые дали сквозных переулков и улиц за «нею».