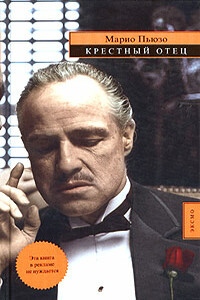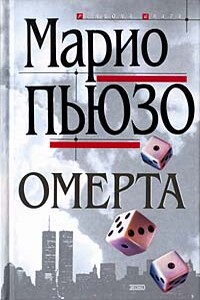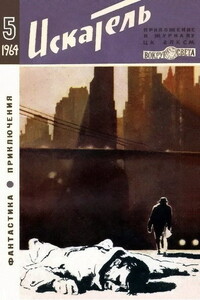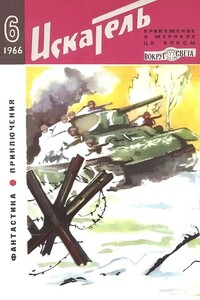Пусть умирают дураки | страница 68
Теперь я должен был продаться идее стать мошенником. Я хотел быть честным потому, что мне удобнее было говорить правду, чем лгать. Мне легче было быть невинным, чем виновным. Я продумал это. Это было прагматическим, а не романтическим стремлением. Если бы мне было удобнее лгать и красть, я так бы и поступал. И таким образом находил бы общий язык с теми, кто так себя ведет. Это было инстинктом, думал я, а не обязательно нравственным выбором. Я объявил, что моральные принципы тут не при чем. Но в действительности я не верил в это. По существу, я верил в добро и зло как в ценности.
К тому же, по правде говоря, я пребывал в соревновании с другими людьми. И поэтому стремился стать лучшим человеком, лучшей индивидуальностью. Я находил удовлетворение в том, что не алчен до денег, когда и другие люди отстранялись от них. Презирать славу, быть честным с женщинами, быть сознательно незапятнанным. Мне доставляло удовольствие не подозревать других и доверяться им почти во всем. Но себе я никогда не доверял. Быть честным одно, а быть упрямцем — совершенно другое.
Короче говоря, мне лучше быть обманутым, нежели обмануть; я радостно соглашался, чтобы меня провели, пока я сам никого не провел. И я понимал, что это броня, в которую сам себя заковал, что это вовсе не заслуживало восхищения. Слово не могло оскорбить меня, если оно не вселяло чувства вины. Если я был о себе хорошего мнения, то какая разница, если другие думают обо мне плохо? Конечно, это не всегда срабатывало. В броне были трещины. И с годами я совершил несколько промахов.
И все же — все же — я чувствовал, что, как бы элегантно это ни звучало, но было в некотором роде низшей разновидностью хитрости. Что моя моральность покоилась на холодном каменном основании. Что в жизни попросту не было ничего такого, чего мне бы хотелось настолько, чтобы совратиться. Единственное, чего я жаждал это создать великое произведение искусства. Но не ради славы или денег, или власти, как я думал. Просто чтобы осчастливить человечество. Ах! Однажды в подростковом возрасте, удрученный чувством вины и никчемности, я набрел на роман Достоевского «Братья Карамазовы». Эта книга изменила мою жизнь. Она придала мне силу. Она позволила мне увидеть хрупкую красоту всех людей независимо от того, насколько неприглядно они выглядели внешне. И я навсегда запомнил тот день, когда, закончив читать книгу, сдал се в библиотеку приюта, а потом вышел под лимонный свет осеннего дня. Я испытывал светлое чувство. Пределом моих мечтаний было написать книгу, которая заставила бы людей испытать то, что я испытал в тот день. Это было для меня высшим проявлением власти. И чистейшим. И вот, когда был опубликован мой первый роман, над которым я трудился пять лет и который мне так трудно было издать без художественного компромисса, я в первом же обзоре прочел, что он грязен, никчемен, книга, которую ни в коем случае не следовало писать, а уж если написана — издавать.