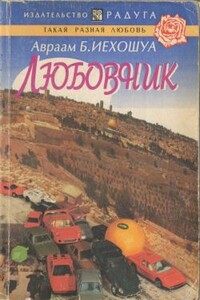Соль на нашей коже | страница 7
И вот как раз на молотьбе мы с Гавейном впервые посмотрели друг на друга как мужчина и женщина, а не как представители враждебных социальных слоев. В такие дни все соседи приходили «пособить» и каждая семья старалась собрать как можно больше рабочих рук. Трое старших сыновей Лозерека, в том числе и Гавейн, оказались дома одновременно – такое случалось редко, и надо было, воспользовавшись моментом, скорее обмолотить зерно. Мы с Фредерикой каждый год приходили к ним на молотьбу – это были наши ближайшие соседи, и мы с законной гордостью вносили свою лепту в тяжкий труд, разделяя с ними приятную усталость по вечерам и радостное возбуждение, неизменно сопровождавшее самое важное в году событие: еще бы, ведь оно определяло достаток всей семьи до будущего лета.
Последний день был удушающе жарким. Уже убрали в амбары овес и ячмень, накануне настала очередь пшеницы. Воздух трепетал от жары, от густой колючей пыли, забивавшей глаза и рот, от тарахтения молотилки. Темные юбки женщин постепенно становились серыми, их волосы и чепцы – тоже; ручейки пота оставляли буроватые бороздки на лицах и шеях мужчин. Один только Гавейн работал без рубахи. Стоя на повозке, он ловко, одним ударом серпа, рассекал солому, которой были связаны колосья, насаживал сноп на вилы, поднимал высоко над головой, царственным, как мне казалось, жестом сбрасывал на движущуюся ленту – и охапки спелой пшеницы, подпрыгивая, ехали вниз. Он весь блестел от чистого молодого пота под ярким солнцем, среди золотистых колосьев, которые как будто летали вокруг него, и мускулы играли под его кожей так же неутомимо, как на крупах двух сильных лошадей, подвозивших ему все новые снопы.
Никогда я не видела, чтобы мужчина был до такой степени мужчиной, – разве только в американском кино, – и я гордилась тем, что причастна к этой церемонии, что причастна, хотя бы ненадолго, к его миру. Все мне нравилось в эти раскаленные дни: нравился острый запах мешков с еще дымящимся зерном, этих символов изобилия, нравилось, как отец Гавейна, стоя под самой молотилкой, следит за наполняющим их потоком пшеницы, чтобы ни одно драгоценное зернышко не упало мимо, нравилось «полдничать» в три часа: деревенское сало, паштеты, большие куски темно-желтого масла, щедро разложенные на ломтях серого хлеба, – какими жалкими казались в сравнении с этим пиршеством наши парижские «четырехчасовые чаепития»; нравилась даже крепкая ругань, раздававшаяся всякий раз, когда срывался ремень и приходилось вновь натягивать его на шкивы, а работники, пользуясь остановкой, успевали промочить пересохшие глотки изрядной порцией сидра; а больше всего нравилась минута, когда все мешки были сложены под навесом, готовые к отправке на мельницу, и начался ночной пир у костра, специально для которого закололи свинью.