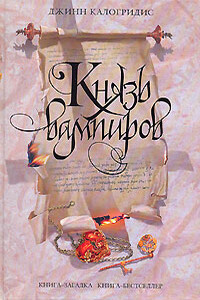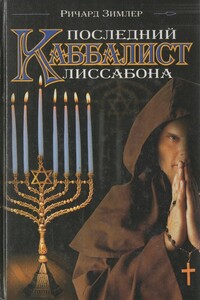Я, Мона Лиза | страница 90
Дзалумма была со мной. Она горевала потихоньку, скрывая от всех, насколько удавалось, свои слезы, но ведь она знала маму дольше, чем я. Часто ночью, просыпаясь от тревожных снов, я видела, что она неподвижно сидит в темноте. В течение дня рабыня рьяно занималась только мной. Когда в тот вечер раздался стук в дверь, она сидела, склонившись над масляной лампой, и вышивала носовой платок для моего приданого.
— Войди, — неохотно откликнулась я, узнав по стуку, кто там за дверью, и не имея ни малейшего желания разговаривать с пришедшим.
Отец открыл дверь наполовину. Он до сих пор носил тяжелую черную накидку и траурный головной убор. Привалившись к косяку, он устало произнес:
— В большом зале приготовлены для тебя ткани. Я велел слугам их разложить. Сюда поднимать не стал, а то их слишком много. — Он повернулся, чтобы уйти, словно этих слов было достаточно.
— Что еще за ткани?
Мой вопрос заставил его остановиться.
— Выбирай что хочешь, а портного я приведу. Тебе понадобится новое платье. О затратах не думай. Главное, чтобы платье было тебе к лицу.
Дзалумма, сидевшая рядом — после смерти мамы она всячески старалась избегать отца, — оторвалась от рукоделия и впервые бросила на него недовольный взгляд.
— Зачем все это?
Мне ничего на ум не приходило, кроме того, что он вдруг решил вернуть мое расположение. Но такое поведение совершенно не вязалось с учением Савонаролы: монах неодобрительно относился к увлечению модой.
Отец вздохнул. Видимо, вопрос его раздосадовал. Отвечал он весьма неохотно.
— Тебе предстоит посетить прием в доме Лоренцо де Медичи.
Лоренцо Великолепный — главная мишень речей Савонаролы, направленных против богатства и излишества. От изумления я на секунду лишилась дара речи.
Отец повернулся и ушел, быстро спустившись по лестнице, и никакие мои оклики вслед не смогли его вернуть.
Мы с Дзалуммой спустились вниз в тот же вечер, но чтобы как следует рассмотреть отцовский подарок, вернулись утром, когда было светло.
В гостиной нас ждало невероятное количество умопомрачительных тканей — отец, как ни удивительно, бросил вызов городским законам, регулирующим расходы на предметы роскоши. Лучшие отрезы, какие только нашлись во Флоренции, были аккуратно свернуты и разложены для обозрения. И среди них ни единого темного по цвету, подходящего для дочери одного из плакальщиков Савонаролы. Там были ткани переливчатых синих тонов, бирюзовые, голубовато-фиолетовые и яркие желто-оранжевые, насыщенные зеленые и розовые; увидела я и более тонкие оттенки, носившие названия «персиковый цвет», «волосы Аполлона» и «розовый сапфир». Для сорочки был огромный выбор тончайшего белого шелка, легкого, как воздух, и расшитого серебром и золотом; рядом стояло целое блюдо мелкого жемчуга, чтобы украсить готовую вещь. Блестящий дамаст лежал рядом с роскошной парчой, а дальше — гладкий бархат, ворсистый бархат и совсем тонкий шелковистый бархат с вплетенными в него золотыми и серебряными нитями. Мой взгляд приковал к себе шанжан, переливчатый шелк с жесткой вставкой из тафты. Если поднести его к свету, то сначала он казался алым, но стоило пошевелить тканью, как цвет менялся до изумрудного.