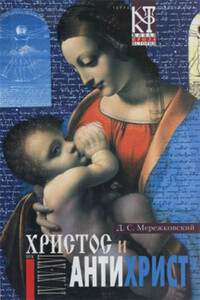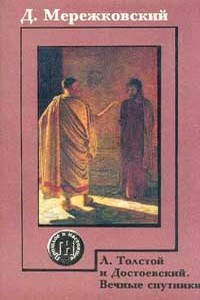Пушкин | страница 33
Оба время от времени воскресают. Последним воплощением дельфийского бога солнца и гордыни был «сей чудный муж, посланник провиденья, свершитель роковой безвестного веленья… сей хладный кровопийца, сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари», — Наполеон. В самые темные времена, среди воплей проповедников смирения и смерти, воскресает и другой демон, «женообразный, сладострастный», — со своею песнью на пире во время чумы: Зажжем огни, нальем бокалы, Утопим весело умы — И, заварив пиры да балы, Восславим царствие чумы! Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении чумы! Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья, может быть, залог!
Это упоение ужаса еще яснее выражено в — «Египетских ночах». Клеопатра, бросающая поклонникам своим вызов: «свою любовь я продаю; скажите: кто меж вами купит ценою жизни ночь мою», является воплощением демона Вакха в образе женщины. На вызов отвечают три мужа, три героя — римский воин, греческий мудрец и безымянный отрок, «любезный сердцу и очам, как вешний цвет едва развитый», с первым пухом юности на щеках, с глазами, сияющими детским восторгом, столь невинный и бесстрашный, что сама беспощадная царица остановила на нем взор с умилением:
Но рядом со смертью — какая нега, какая беззаботная полнота жизни, освобожденной от добра и зла:
Они достойны этого фимиама — избранники Диониса, герои сладострастия, ибо, увлекаемые безмерностью своих желаний, они преступили границы человеческого существа и сделались «как боги». Вот почему на лице Клеопатры — не суетная улыбка, а молитвенная торжественность и благоговение, как на лице неумолимой весталки, когда она произносит свою клятву:
Трудно поверить, что художник, который воплотил в этом видении царицу смерти и нег, создал и чистый образ Татьяны. Всего любопытнее, что эта уездная русская барышня, подобно Клеопатре, любит загадочный мрак, любит ужас. Поэт говорит о Татьяне: