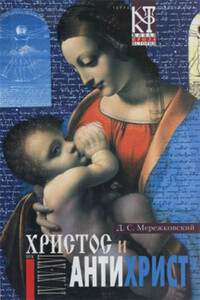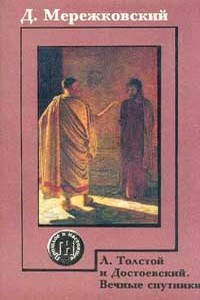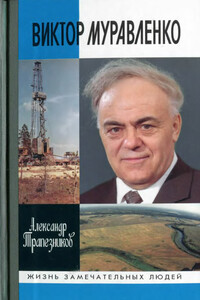Пушкин | страница 32
Более чем кто-либо из русских писателей, не исключая и Достоевского, Пушкин понимал эту соблазнительную тайну — ореол демонизма, окружающий всякое явление героев и полубогов на земле.
Однажды, беседуя при Смирновой о философском значении библейского и байроновского образа Духа Тьмы, Искусителя, Пушкин на одно замечание Александра Тургенева возразил живо и серьезно: «суть в нашей душе, в нашей совести и в обаянии зла. Это обаяние было бы необъяснимо, если бы зло не было одарено прекрасной и приятной внешностью. Я верю Библии во всем, что касается Сатаны; в стихах о Падшем Духе, прекрасном и коварном, заключается великая философская истина».
«Обаяние зла» — языческого сладострастия и гордости, поэт выразил в своих терцинах, исполненных тайною раннего флорентинского Возрождения. Здесь Пушкин близок нам, людям конца XIX века: он угадал предчувствия нашего сердца — то, чего мы ждём от грядущего искусства. Добродетель является в образе Наставницы смиренной — одетой убого, но видом величавой жены, «над школою надзор хранящей строго». Она беседует с младенцами приятным, сладким голосом, и на челе ее покрывало целомудрия, и очи у нее светлые, как небеса. Но в сердце поэта-ребенка уже зреют семена гордыни и сладострастия:
Ребенку, убежавшему от целомудренной наставницы, в «великолепный мрак» и негу языческой природы — этого «чужого сада», являются соблазнительные привидения умерших олимпийцев — «белые в тени дерев кумиры».
Красота этих божественных призраков ближе сердцу его, чем «полные святыни словеса» строгой женщины в темных одеждах. Более всех других привлекают отрока два чудесные творенья:
Эти два демона — два идеала языческой мудрости: один — Аполлон, бог знания, солнца и гордыни, другой — Дионис, бог тайны, неги и сладострастия.