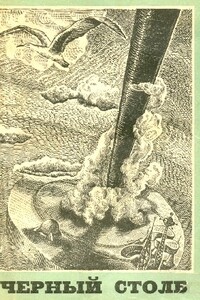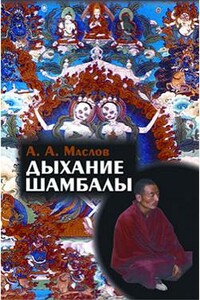Трон Люцифера | страница 70
Трисмегист смело перемешал «три первоэлемента» грядущей средневековой мистики: иудео-христианский монотеизм с его реликтами солнечных поклонений, египетское многобожие, инстинктивно тяготеющее к эзотерическому синтезу, и философский идеализм греческой Александрии.
В первом трактате идея единого бога отождествляется с божественным разумом в образе света, противостоящего влажному началу, созданному тьмой. Разум порождает слово. Разум поэтому бог-отец, а Логос — сын божий. «Откуда, — вопрошает Трисмегист своего небесного собеседника, — произошли стихии природы?»- «Из воли бога, который, взяв свой Логос и созерцая в нем порядок и красоту, создал мир по этому прототипу», — разъясняет «Пастырь мужей». Далее выстраивается уже знакомая нам гностическая иерархия: «Разум — бог мужской и женский, жизнь и свет, рождает через Логос божество огня и духа, которое, в свою очередь, образует семь служебных духов, обнимающих своими кругами (обратим внимание на столь знаменательное сочетание. — Е. П.) чувственный мир и управляющее им посредством так называемой судьбы». Смешав библейскую идею творца с гностическим символом падшего эона-андрогина, Трисмегист поставил перед человеком дерзновенную, еретическую в самой основе задачу — посредством совершенного знания соединиться с божеством и стать его воплощением. Бестрепетная скорбь египетской «Книги Мертвых», повествующей о загробных странствиях души, обретает у Трисмегиста явственные контуры пифагорейской абстракции, а отголоски индуистских мелодий вливаются в мощный орфический гимн. «Смерть есть наше освобождение от уз материи. Тело есть куколка (кризолида), которая открывается, когда мы созрели для более высокой жизни. При смерти наш дух выходит из тела, как аромат из цветка, ибо дух заключен в теле, как аромат в семени цветка» (трактат «Асклепий»). Как не вспомнить здесь о практике подвижников-шиваитов, о тантрической медитации, о мусульманских аскетах из ордена суфиев?
Не о реальном познании мира говорит Трисмегист, а о «разум ной жертве души и сердца», о сосредоточенном погружении в абсолют, отрешении от желаний и мысли.
«Наша мысль не может представить себе божество, и наш язык не может его определить. Бестелесное, невидимое, не имеющее формы не может быть воспринято временем. Божество есть абсолютная истина и абсолютное могущество, а абсолютно неизменное не может быть понято на земле».
Отсюда он совершенно закономерно приходит к теургии — чудотворству и волшебству. Подобно тому как верховное божество эманирует отдельных богов в небесных сферах, человеку дана сила творить богов в посвященных им храмах, излучать материю и создавать формы для чудотворных, пророческих проявлений невидимых сил.