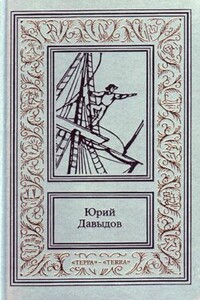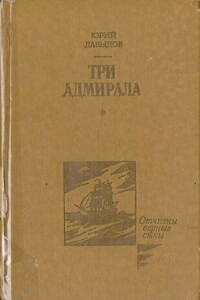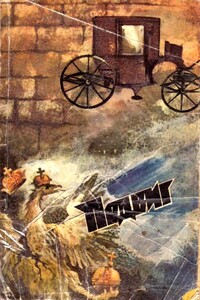Март | страница 79
Возок поравнялся с будкой. Из будки вышел часовой-звонарь, окликнул:
– Ваше степенство, простите великодушно. Нет ли покурить? – и засеменил в своем долгополом тулупе рядом с санями.
Желябов выпростал папиросы, фосфорные спички.
– Благодарствуйте, ваше степенство. Чистое дело околеть можно: ни зги, один в поле воин.
Часовой отстал.
Андрей уткнулся носом в воротник, барашковую шапку посунул ниже, на брови, прислушался к отдалившемуся колоколу. «Один в поле воин»… И вспомнил: «Один в поле не воин». Был такой роман Шпильгагена. Гимназисты читали запоем, из рук рвали, и они с Мишкой Тригони тоже читали там, в Керчи. Ужасно жалели Сильвию и Лео… Керчь, Крым – хорошее время. И Соня тоже жила в Крыму. В Севастополе Соня жила, на Северной, говорит, стороне, где балки, виноградники, песчаный берег. Вот поди ж ты – оба жили в Крыму, да только не знали друг друга, годы понапрасну минули… А Саша – решительный противник любви. Эта, говорит, грамота не про нас писана. Пожалуй, он прав. Сами взвалили на плечи превеликую ношу. А когда грузчик, согнувшись и напружившись, тащит по трапу пудовые грузы, лицо его искажается. Так и нравственный облик: он искажен отказом от радостей жизни, отказом от красоты ее. Но разве Геся перестала быть нашей Гесей оттого, что любит Колоткевича? И разве Колоткевич переменился оттого, что любит Гесю? Ты не прав, Михайлов… Но если по чести, то мне уж не до того, прав ты иль нет. Совсем не до того мне, милый ты наш придира. И уж как ты там хочешь, а я люблю ее, и баста.
Ветер, плавно сдвинув тучи, повел пургу к Невскому устью. Небо над заливом посветлело, холодно и чуждо засветилась Вега.
Кто-то из древних сказал: «Что мне до звезд, когда на земле я вижу кровь и рабство». И вот Николу Андрей застал однажды у окна; в отрешенном раздумье Кибальчич созерцал петербургское ночное небо: «Когда-нибудь люди…» В звездах, в фантазиях тоже радость жизни, как и в любви. А древний философ? Быть может, не прав, как не прав Михайлов? Или не совсем прав? Желябов опять подумал о Соне и о том, что вот и ему, оказывается, есть дело до звезд.
К морякам Кронштадта Желябов ехал не впервые. Началось все знакомством с лейтенантом Сухановым. Знакомство завязалось просто. У Сони в Петербурге обнаружилась старинная, по крымскому еще житью, приятельница – Ольга Зотова. Суханов, флота лейтенант, приходился ей родным братом. У Зотовой и повстречались.
Желябов еще в Одессе приметил черту, свойственную многим офицерам военного флота: они были славные ребята, крепкие в дружестве, без армейской фанаберии и притом, что самое главное, весьма свободомыслящие. «Такие уж, – шутили, – по традиции мы». И это неискоренимое презрение к Третьему отделению… Как-то заподозрили жандармы одного мичмана, сообщили командиру корабля – мол, присматривайте за ним, а командир, не будь плох, зазвал в каюту мичмана и говорит без предисловий: «Я, слава богу, моряк, а не сыщик, но вы, сударь, осторожнее…» А недавно Суханов рассказывал: какой-то болван-прапорщик сдуру, что ли, а может, с тяжкого похмелья напросился в Отдельный корпус жандармов; офицеры перестали подавать ему руку, за один стол не садились; мало того, потребовал прапорщика адмирал, глянул на него презрительно да и огрел: так вот, дескать, какой вы огурчик, честный офицерский мундир на мундир шпиона меняете?!