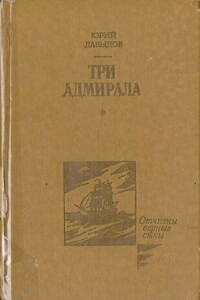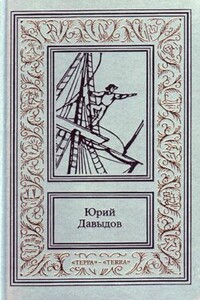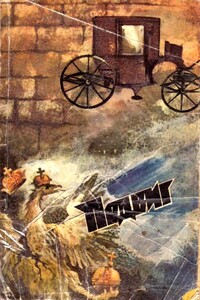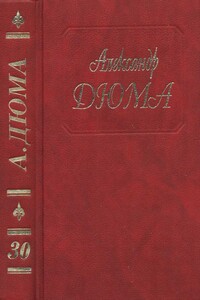Март | страница 26
Глава 4 «НЕ ЗАБЫВАЙ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»
Госпожа Горбаконь, вдова трубача, сдавала внаем комнаты. Квартирой она располагала на бойком месте, в большом доходном доме неподалеку от станции Николаевской железной дороги и Невского проспекта.
Михайлову дом этот очень приглянулся. Он поладил с трубачихой и прописался в участке по фальшивому документу на имя какого-то отставного поручика Поливанова.
Комната – длинная, узкая, высокая – полнилась неживым сумраком. Так бывает в Петербурге, когда по календарю зима, а на дворе оползни сивых туманов. Топила хозяйка, как милостыню подавала. Койка напоминала не то монашеское ложе, не то «общеармейское». Стол и стулья страдали хромотою. Нужно, однако, заметить, что новый постоялец г-жи Горбаконь не придал сим обстоятельствам ни малейшего значения. О комфорте имел он представление теоретическое. Комфорт существовал в другом Петербурге. И для других петербуржцев. Так же, как в другом Петербурге и для других петербуржцев существовали кровные рысаки, департаменты, тайные игорные притоны. Жизнь этого Петербурга совершенно не занимала Михайлова. Он жил по-иному и для иного.
В душе Михайлова не выболела боль. Михайлов скрывал ее тщательно. Боль причиняли события недавние. Летом в Воронеже случилось, в сущности, то, что и должно было случиться: раскол. Тысячу раз можно твердить: раскол был неизбежен. Но если ты разошелся с побратимами, с такими, как Жорж Плеханов, от этого ничуть не легче. Разошлись не потому, что двоилась далекая цель. Разошлись оттого, что видели две дороги к одной цели. «Земля и воля» – прошлое. «Черный передел» и «Народная воля» – настоящее, сегодняшнее. Да штука-то в том, что сердце не спрашивает, как ему стучать. И стучит невыболевшей болью. Был один стан, «стая славных». А теперь? Он и мысленно не мог произнести: «Враги». Он видел, ему часто вспоминался Жорж, там, в воронежском Архиерейском саду, на поляне, заросшей бурьяном и мордовником; Жорж с его прекрасным гневным лицом, с его монгольского излома бровью: «Мне, господа, тут делать нечего…» Жорж не желал слышать о борьбе за политические права, о борьбе террористической. Жорж уходил; его хотели было воротить, и это он, Михайлов, лучший друг, крикнул: «Нет, пусть уходит!» Пусть уходит Жорж, пусть уходят те, кто с ним. И они ушли. А боль надобно избыть. И никто, даже Софья с Желябовым, не должны об этом догадываться. Его, Александра Дмитриевича Михайлова, считают практиком революции. Ну что ж, он не намерен опровергать прочную репутацию. Но разве и практика порой не мучают те же мысли, что и Волошина? Разве и практика, влюбленного в Организацию, как можно быть влюбленным в реальную женщину, не страшит подчас тень Нечаева? И все ж Михайлов не кривил душой, когда гнал эту шекспировскую тень из сторожки пасечника в Петровско-Разумовском. Он верил в Организацию. Никому, никогда не удастся подчинить ее личному честолюбию. Но если раскол был возможен, возможен и неизбежен в недавнем прошлом, кто поручится, что и когда-нибудь, потом не произойдет нечто подобное? Это «потом», это «после» было за крутым перевалом. Оно означало другие времена, оно означало Будущее. А это Будущее складывалось из таких трепетных и заветных черт, что, ей-богу, нельзя было хоть чем-нибудь омрачать их. То уж забота и думы других поколений. Тех, что вкусят наливные плоды древа Свободы. А ему, Михайлову, жить настоящим. Ему жить в настоящем, которое требует неослабного напряжения и ежечасных усилий, увертливости и терпения. Он практик, господа, он практик революции.