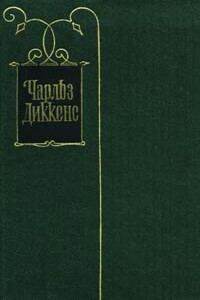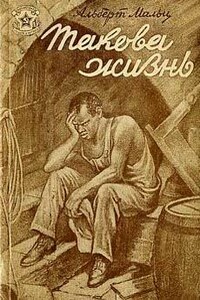Племянник Рамо | страница 23
А если бы наш друг Рамо в одни прекрасный день стал выказывать презрение к богатству, к женщинам, к вкусной еде, к безделью и разыгрывать Катона, кем бы он оказался? Лицемером. Рамо должен быть таким, каков он есть, – счастливым разбойником среди разбойников богатых, а не кричащим о своей добродетели, или даже добродетельным человеком, грызущим корку хлеба в одиночестве и вместе с другими нищими. И чтобы уж все сказать напрямик, меня не устраивает ни ваше благополучие, ни счастье мечтателей – таких, как вы.
Я Я вижу, дорогой мой, что вы и не знаете, что это такое и даже не способны это узнать.
Он. Тем лучше, черт побери, тем лучше. Иначе я подох бы с голоду, со скуки и, может быть, от угрызении совести.
Я. Так, единственный совет, какой я могу вам дать – это поскорее возвратиться в тот дом, откуда вас выгнали из-за вашей опрометчивости.
Он. И делать то, что в прямом смысле вы не порицаете и что немного мне претит в переносном?
Я. Я вам советую.
Он. И невзирая на ту метафору, что мне сейчас не по вкусу, а в другой раз может прийтись и по вкусу.
Я Что за странности!
Он Тут нет ничего странного: я готов быть гнусным, но не хочу чтобы это было по принуждению. Я готов пожертвовать достоинством… Вы смеетесь?
Я. На ваше достоинство меня смешит.
Он. У каждого свое. О моем я готов забыть, но по своей собственной воле, а не по чужому приказанию. Допустимо ли чтобы мне сказали: «Пресмыкайся!»– и чтобы я был Обязан пресмыкаться! Это свойственно червю, свойственно мне мы оба пресмыкаемся, когда нам дают волю, но мы выпрямляемся, когда нам наступят на хвост; мне наступи на хвост, и я выпрямился. К тому же вы не имеете представления о том, что это за отвратительнейшая кунсткамера Вообразите меланхолика и угрюмца, терзаемого недугами, наглухо закутавшегося в халат, противного самому себе, да ему и все противно; у него с трудом вызовет улыбку, хотя бы ты на тысячу ладов изощрялся тело и умом; он остается равнодушен к тому, как забавно кривляется мое лицо и еще забавнее кривляется моя мЫсль а ведь, между нами говоря, даже отец Ноэль, этот гадкий бенедиктинец, столь известный своими гримасами несмотря на весь свой успех при дворе. По сравнению со мной жалкий деревянный паяц. Как я ни бьюсь, чтобы достигнуть совершенствa обитателей сумасшедших домов, ничто не помогает Засмеется? Не засмеется?»– вот о чем я спрашиваю себя когда извиваюсь перед ним, и вы сами посудите, как вредна для таланта подобная неуверенность. Мои ипохондрик, когда нахлобучит на голову ночной колпак, закрывающий ему глаза, напоминает неподвижного китайского болванчика, у которого к подбородку привязана нитка, спускающаяся под кресло. Ждешь, что нитка дернется, а она не дергается, а если и случится, что челюсти раздвинутся, то только для того, чтобы произнести слово, повергающее вас в отчаяние, слово, дающее вам знать, что вас не заметили и что все ваши ужимки пропали даром. Это слово служит ответом на вопрос, который вы, например, задали ему четыре дня тому назад; когда оно сказано, механизм ослабевает и челюсти закрываются.