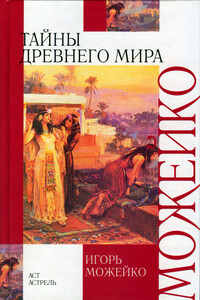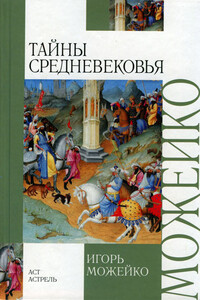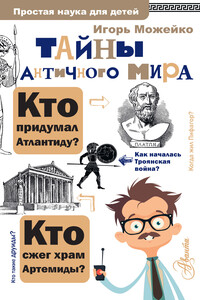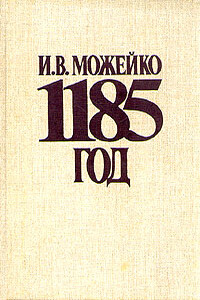Западный ветер - ясная погода | страница 29
По всем законам тогдашней войны, известным и Жукову, и японцам, танки не могли действовать без поддержки пехоты, тем более в ночное время. Жуков же бросил все свои танки и подошедшие чуть позже бронемашины на гору в двенадцать часов ночи.
Танки прорвались на плоскую вершину горы, нарушили коммуникации японской дивизии, внесли панику и держались на горе до утра, когда подошел 24-й мотострелковый полк.
Гора была очищена от японских войск. Следующей ночью на нескольких машинах бежал командующий 6-й армией генерал Камацубара. «Тихо и осторожно движется машина генерала Камацубара, — писал в дневнике один из штабистов. — Ночь тиха и напряжена, так же как и мы... Картина ужасная. Наконец мы отыскали мост и благополучно закончили обратную переправу. Говорят, что наши части окружены большим количеством танков противника и стоят перед лицом полного уничтожения. Надо быть начеку..."
Однако бои были далеки от завершения. Они шли с переменным успехом до второй половины августа, когда Жуков завершил подготовку к решительной операции, которую смог подготовить в абсолютной тайне так, что до последнего мгновения японцам не удалось ни о чем догадаться.
Принимая во внимание слабость японских флангов и существование плацдармов на «японском» берегу реки, Жуков направил основной удар с флангов. Операция была назначена на воскресный день. Убаюканное радиоперехватом о том, что советские и монгольские части активно заняты оборонительными работами, командование отпустило часть офицеров на выходной день в городок Джанджин Сумэ в ста километрах от места боев.
Операцию взяли на себя советская авиация и танки, на этот раз при поддержке пехоты. 6-я армия была окружена и лишь отдельным ее подразделениям удалось вырваться из окружения. Через два дня война закончилась. Отступив за монгольско-маньчжурскую границу, Квантунские генералы, так позорно проигравшие малую войну, лишились своих постов, за исключением самого Камацубары, который сумел собрать остатки японских частей и вывести их за монгольско-маньчжурскую границу, представив дело в Токио таким образом, будто он предотвратил вторжение Красной Армии в Маньчжурию. После этого последовал ряд воинственных заявлений со стороны Квантунской армии, которая грозилась начать войну вновь и на этот раз живого места от Советов не оставить.
Новой войны не последовало, граница была вновь демаркирована точно так же, как прежде, и японцы поставили под этим свои подписи. С тех пор в японской литературе четырехмесячные бои у Халхин-Гола, унесшие, как говорилось на трибунале в Токио, более 50 000 жизней японских и маньчжурских солдат, характеризуются кратко и лживо. Вот что сообщает наиболее чтимая монография «Япония в войне 1941-1945» бывшего полковника Такусиро Хаттори, изданная в ряде стран: "...Политика Японии в отношении Советского Союза строилась на принципе сохранения на севере полного спокойствия. Однако японо-советские столкновения, которые устрашили японский народ и высшее командование армии Японии, дважды возникали на маньчжурско-японской границе. Это был конфликт в районе высоты Заозерная в июле 1938 года и конфликт в районе Номон-Хана в 1939 году. Оба конфликта представляли собой чисто пограничные инциденты, вызванные неопределенностью в обозначении государственной границы, но создавшие в своем развитии большую угрозу Японии... Во время конфликта в районе Номон-Хана японская армия вела подготовку к длительным военным действиям в Китае, и против тридцати советских дивизий в Маньчжоу-Го имелось всего восемь японских дивизий». К сожалению, столь открытое искажение действительности является той виртуальной правдой, которую японские школьники изучают в школах.