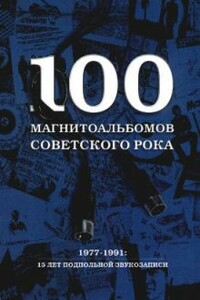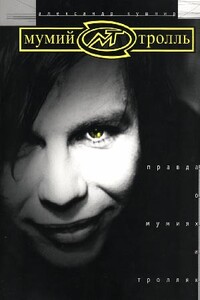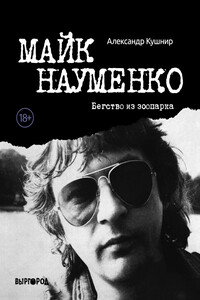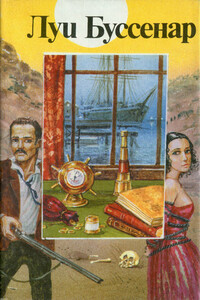Nautilus Pompilius | страница 73
Феномен нервозности Белкина и особенности его тогдашней психологии уходили корнями в почти что сказочные времена создания “Урфина Джюса”. Даже в те беззаботные дни он умудрялся найти повод для политических интриг.
В одном из архивных интервью Белкин вспоминал:
Когда Пантыкин предложил мне попробовать поиграть в его группе, я сначала хотел отказаться. У меня тогда был свой проект, но меня смутило то, что на Пантыкина в то время было множество всяких поползновений. Его тогда дико плющили – и я из принципа решил остаться.
Спустя шесть лет история с защитой угнетенных от угнетателей повторилась почти без изменений – правда, уже в “Наутилусе”. По крайней мере, в версии Белкина причины его появления в группе в 1988 году выглядели следующим образом:
В гробу бы я видел “Наутилус” вместе с его музычкой, если бы не Бутусов. Попробуйте поработать столько концертов, потусоваться с таким говном. Слава остался почти один.
В “Наутилусе” последнего созыва у Белкина почти сразу же резко обострились отношения с Джавадом.
Вспоминает Джавад:
Люди рождаются либо электростанциями, либо лампочками. Белкин был лампочкой, причем достаточно тусклой. У меня с Егором сразу же началась жуткая конфронтация – у него был буйный имидж, и, зная слабые места Бутусова, он постоянно давил на него. Мой уход из группы был во многом предопределен поведением Белкина. Работать с этим человеком вместе было невозможно. У Белкина было просто отвратительное отношение к людям. Он о всех говорил плохо, а команда тогда нуждалась в доброте.
После ухода Джавада всю мощь своей деструктивной энергии Белкин обрушил на Беляева. Саша Беляев, автор очень многих гитарных находок, смузучилищем по классу акустической гитары за спиной и солидным опытом европейских гастролей в составе “Телевизора”, периодически пытался создать в музыке какие-то стилевые рамки – мол, “давайте определимся”. В свою очередь, Белкин, зациклившийся на традиционной рок-формуле “Come on, everybody!”, на все предложения Беляева реагировал с поразительной однозначностью: “А на х.. это надо?”
Единственное, что на тот момент объединяло Белкина и Беляева, – это, как ни странно, пассивное неприятие Бутусова. Возможно, это была зависть, возможно, что-то еще. Дело в том, что для любого вымуштрованного рок-музыканта с амбициями непрофессионализм Бутусова был немалым раздражителем. Первоначально все это переводилось в шутки, которые со временем превратились в зависть (“у него почти все песни написаны в двух тональностях”), а затем – в классический невроз из серии “Моцарт и Сальери”. Дров в огонь подбрасывали ночные разговоры и осознание разрыва в общественном статусе – между музыкантами, которые все умеют, и самим Бутусовым, который вечно забывал слова, не всегда правильно брал ноты или держал ритм, но при этом был талантлив.