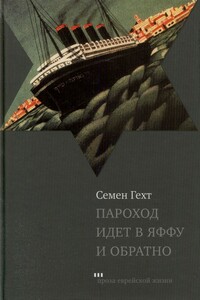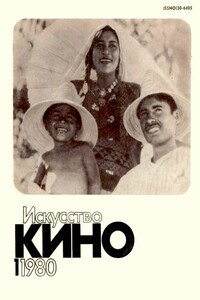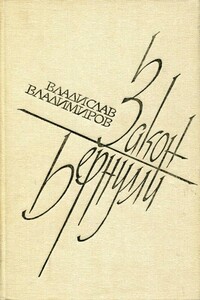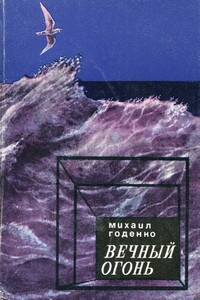Люди, годы, жизнь. Книга VI | страница 73
Наконец, меня ограничивает сознание, что где-то придется поставить черту - окончить книгу, следовательно, попытаться подвести итоги. Окончить я решил на том времени, когда писал «Оттепель». «Последнее сказанье», таким образом, написано не будет - я не старец Пимен, и эта книга меньше всего бесстрастная летопись. Как бы ни казалась лоскутной история пережитых мною послевоенных лет, как бы ни выглядели картины разрозненными, дни и мысли оборванными, я верю, что читатели почувствуют в сбивчивом рассказе не проповедь, а исповедь.
Возвратившись в Москву, я вернулся к «Буре» и окончил ее летом 1947 года. Писал я с утра до ночи, торопился, хотя знал, что именно работа над романом ограждает меня от горьких мыслей и что не скоро мне удастся снова сесть за книгу. Так и случилось. Но если я долго не решался начать роман, то, закончив его, еще дольше не мог освободиться от героев, продолжал с ними мысленно беседовать - не только потому, что автору всегда мучительно расстаться с теми из персонажей книги, которых он полюбил, но и потому, что память о войне не позволяла мне мириться со многим происходившим вокруг.
Иногда по вечерам я слушал наше и парижское радио. За то время, когда я писал «Бурю», мир успел измениться. Моя поездка за границу казалась давней буколикой. Во Франции рабочие проиграли массовые забастовки, полиция стреляла в демонстрантов. В Америке крайние круги одержали верх. Я слышал новые слова: «план Маршалла», «доктрина Трумэна», «превентивная война». Это было неправдоподобно и страшно: ведь не прошло и трех лет со дня общей победы, люди еще хорошо помнили огонь минометов, бомбежки, прожитые всеми жестокие годы. Я слушал но радио псевдоученые разговоры о необходимости «отстоять западную культуру от советской экспансии», слушал и возмущался. Один видный французский писатель заявил, что существует «атлантическая культура», его выступление совпало с созданием Североатлантического союза. Все это слишком напоминало рассуждения гитлеровцев о превосходстве культуры, созданной «северной расой».
В ответах на военную пропаганду Запада мне порой в газетных статьях удавалось напомнить о некоторых вдоволь азбучных истинах, в те годы часто попиравшихся. В августе 1947 года я писал: «Культуру нельзя разделять на зоны, разрезать, как пирог, на куски. Отделять западноевропейскую культуру от русской, русскую от западноевропейской попросту невежественно. Когда мы говорим о роли, которую сыграла Россия в духовной жизни Европы, то отнюдь не для того, чтобы принизить другие народы. Ходули нужны карликам, и о своем расовом, исконно национальном превосходстве обычно кричат люди, не уверенные в себе. Глубокая связь существовала с древнейших времен между мыслителями и художниками различных стран, способствовала богатству и многообразию культуры. Мы учились у других, и мы учили других. Нужно ли еще раз напоминать, что без классического русского романа нельзя себе представить современную европейскую и американскую литературу, как нельзя себе представить современную живопись без того, что создано французскими художниками прошлого века… Белинский сто лет назад писал, что европейские народы «нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только дли народов нравственно бессильных и ничтожных».