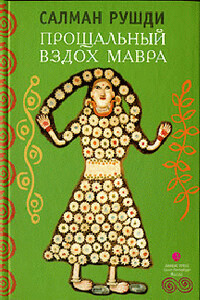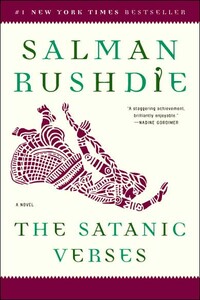Дети полуночи | страница 112
Глаза были слишком голубыми: кашмирская голубизна, голубизна подменыша, голубизна, тяжелая от непролитых слез; слишком голубыми были эти глаза, чтобы открываться и закрываться. Когда меня кормили, глаза мои не смыкались; когда девственница Мари сажала меня на плечо, вскрикивая: «Уф, какой тяжелый, сладчайший Иисусе!» – я срыгивал, не моргая. Когда Ахмед Синай с раздробленным пальцем ковылял к моей кроватке, я встречал протянутые губы проницательным, немигающим взглядом. «Может, мы ошибаемся, госпожа, – засомневалась Мари. – Может, маленький сахиб делает так, как мы, – моргает, когда мы моргаем». И Амина: «Давай моргнем по очереди и посмотрим». По очереди поднимая-опуская веки, они неизменно видели ледяную голубизну; не замечалось ни малейшего, самого легкого дрожания, и потому Амина взяла дело в свои руки, подошла к колыбели и опустила мне веки. Глаза закрылись, дыхание стало ровным и спокойным, в ритме сна. После этого еще несколько месяцев мать и няня поднимали и опускали мне веки. «Он научится, госпожа, – утешала Мари Амину. – Такой хороший, послушный мальчик, конечно же, привыкнет это делать сам». Я научился, и это был первый в моей жизни урок: никто не может взирать на мир постоянно открытыми глазами.
Теперь, глядя назад глазами ребенка, я все прекрасно вижу – удивительно, сколь многое можно вспомнить, если постараться. Вот что я вижу: город, греющийся, будто ящерица-кровопийца, под жарким летним солнышком. Наш Бомбей: он похож на руку, но на самом деле это – рот, всегда открытый, всегда голодный, заглатывающий пищу и таланты, что стекаются сюда со всей Индии. Чарующая пиявка, не производящая ничего, кроме фильмов, рубашек-сафари, рыбы… Сразу после Раздела я вижу, как Вишванатх, юный почтальон, катит на велосипеде к нашему двухэтажному холму с конвертом из веленевой бумаги в сумке, притороченной к багажнику; он гонит на своем стареньком индийском велосипеде «Арджуна» мимо ржавеющего автобуса – брошенного, хотя и не настал еще сезон дождей: его водитель внезапно решил уехать в Пакистан, выключил двигатель и отправился восвояси, оставив полный автобус бог весть куда завезенных пассажиров; те высовывались в окна, цеплялись за багажные сетки, толпились в дверях… я слышу их проклятья: «свинья и сын свиньи, осел и брат осла». Но они так и будут держаться за свои с боем добытые места еще целых два часа, пока, наконец, не оставят автобус на произвол судьбы. А вот еще: первый индиец, переплывший Ла-Манш, мистер Пушпа Рой, подходит к воротам бассейна Брич Кэнди. Шафрановая купальная шапочка на голове, зеленые трусы обернуты полотенцем цветов национального флага – этот Пушпа объявил войну правилу «только для белых». В руках у него брусок сандалового мыла фирмы «Майсур»; он гордо выпрямляется, шествует через ворота… а там наемные патаны накидываются на него; индийцы, как всегда, спасают европейцев от индийского мятежа, и он вылетает вон, отважно сопротивляясь; его хватают за руки за ноги, волокут по Уорден-роуд, швыряют в пыль. Пловец через Ла-Манш ныряет на мостовую чуть ли не под копыта верблюдов, колеса такси и велосипедов (Вишванатх резко сворачивает в сторону, чтобы не наехать на брусок мыла)… но ему все нипочем, он встает, отряхивается и обещает вернуться завтра. Все годы моего детства, день за днем, отмечены этим зрелищем: пловец Пушпа, в шафрановой шапочке, с полотенцем цветов национального флага, против воли ныряет на мостовую Уорден-роуд. В конце концов эта упорная война привела к победе, ибо сейчас в бассейн пускают некоторых индийцев «почище» и дозволяют им насладиться водой, замкнутой в карту Индии. Но Пушпа не принадлежит к тем, которые «почище»: старый, всеми позабытый, он взирает на бассейн издалека… и вот уже все больше и больше людей, целые толпы текут сквозь меня – например, Бано Деви, женщина-борец, знаменитая в те дни; она боролась только с мужчинами и грозилась выйти замуж за любого, кто ее побьет; обет этот привел к тому, что она не проиграла ни единой схватки; и (теперь уже ближе к дому) садху, сидящий под краном у нас в саду, звали его Пурушоттам, а мы (Сонни, Одноглазый, Прилизанный и я) прозвали его Пуру-гуру, он верил, будто я – Мубарак, Благословенный, и решил весь остаток жизни не спускать с меня глаз; дни свои он заполнял тем, что учил моего отца хиромантии и заклинаниями сводил у матери мозоли; а еще передо мной – соперничество старого посыльного Мусы и Мари, новой нянюшки, которое будет расти и расти, пока не окончится взрывом; короче, в конце 1947 года жизнь в Бомбее была так же богата, многослойна, заполнена кишащими толпами и совершенно лишена формы, как и всегда… разве что к тому времени я уже появился на свет и начал потихоньку занимать свое место в центре вселенной; к тому моменту, когда придет пора заканчивать, я всему придам смысл. Не верите? Послушайте, Мари Перейра напевает песенку у моей колыбели: