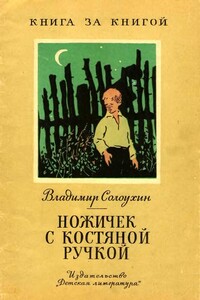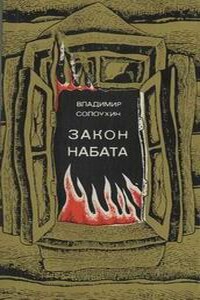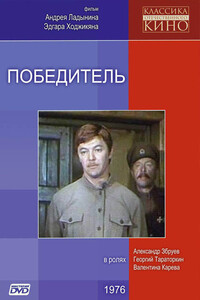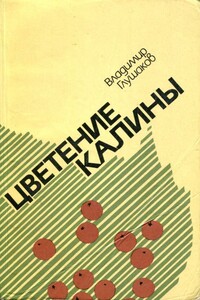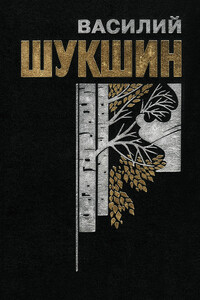Черные доски | страница 14
– Нина, тихо, Нина, с любовью, Нина, не горячись, – возбужденно частил хозяин в то время, как Нина бралась за скальпель.
Острейшим скальпелем, аккуратными, но твердыми, ровными движениями Нина подчистила с проявившегося прямоугольника остатки олифы в тех местах, где они особенно сильно прикипели и не поддались тампону из ваты. Теперь перед нами было действительно окошечко, прорезанное в черной занавеске. За окошечком было ярко и празднично, красно и сине, звонко и солнечно, в то время как сами мы оставались по сю сторону занавески в немоте, глухоте и мраке. Из темноты зрительного зала мы смотрели на экраник, залитый светом. И вот на экране – иное время, иная красота, не наша жизнь. Другая планета, другая цивилизация, таинственный и сказочный мир.
– Да. Не то!– неожиданно для меня заключил художник.
– Но как же не то, когда прекрасно!
– Что прекрасного? Грубая мазня. Смотрите, какие жирные, неопрятные линии. Одежда замалевана сплошь, никакой разделки. Эта плоскость абсолютно глухая. Одним словом, все как у Пушкина: «Художник варвар кистью сонной картину гения чернит». Да, Нина, здесь определенно запись, давай пробиваться глубже.
– Что такое запись?– неуверенно спросил я. – И что значит «глубже»? Надо полагать, «глубже» – доска или этот самый левкас, подобный слоновой кости?
– Э, нет. Мы ведь сняли только одну олифу. А что нас ждет впереди, неизвестно. Впрочем, может быть, действительно, ничего не ждет. Тут мы рискуем. Но если под этой живописью ничего больше нет, то ее не жалко. А если есть…
– Но что еще может быть под живописью?
– Еще одна черная олифа, а потом другая, гениальная живопись.
– ???
– Дело в том, что в старину, когда олифа чернела, икону не выбрасывали. Звали иконописцев, и они поверх черной олифы, по едва проглядывающимся контурам, подновляли икону, а проще говоря – писали заново. И снова покрывали олифой, и снова олифа чернела, и снова приходилось подновлять и писать. Теперь разделите пятьсот на восемьдесят и судите сами, сколько слоев живописи и олифы может оказаться на иконе четырнадцатого или пятнадцатого века. С рублевской «Троицы» тоже сняли несколько слоев поздней живописи, прежде чем добрались до подлинного рублевского слоя. Этот последний слой называется у реставраторов авторским. Под ним действительно нет ничего больше, кроме левкаса, и если неосторожно смоешь авторский слой, то смоешь все и навсегда. А эту грубую мазню разве жалко! Сейчас мы ее уберем и проломим в этой глухой стене еще одно окошко, надо полагать, в шестнадцатый век.