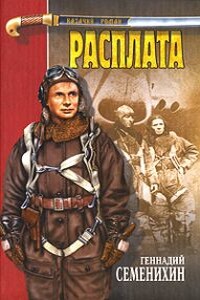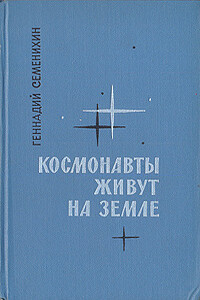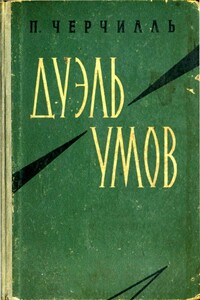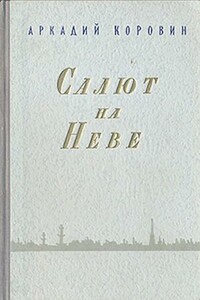Раскаяние | страница 2
– Отчего? – трудно выдавил он.
– Было два инфаркта, – не повернув головы, тихо ответил председательствующий. – Третьего он не выдержал.
– А я-то, – громко вздохнул Лобанов, – а я-то все навестить его собирался.
– Жалко, что не успел, он тебя так ждал, – суховато отозвался Нефедов и заглянул в лежавший перед ним листок. – Тут осталось двое выступающих. Ты заключать будешь?
– Нет, – хрипло ответил Лобанов, – я с твоего разрешения выйду, Саша. На воздух выйду.
– Давай, – внешне не удивляясь, согласился председательствующий и постучал авторучкой о графин, призывая очередного выступающего к регламенту.
Высокое ночное небо, усеянное яркими спокойными звездами, простиралось над Невском, над окружающими его полями и перелесками, так же, как и над той частью земли, где ему в эти часы положено было простираться.
От лунного света на длинной черной персональной машине Лобанова блестел буфер. Шофер открыл дверцу.
– Я здесь, Дмитрий Петрович.
– Сиди, сиди, – мягко остановил его Лобанов, – я так… подышать, – и крупными небыстрыми шагами побрел по темной аллейке.
«Бедный Сережа! А ведь он был на три года меня моложе». Он вспомнил, что белокурого запевалу, доброго широкодушного паренька Сергея Щеглова любила вся рота, а его выпуклые, удивительно голубые глаза-пуговки называли «кукольными». А когда с Нефедовым они лежали в медсанбате, то, навещая их, Щеглов без памяти влюбился в тонконогую с жиденькими косичками медсестру Олю, но вскоре его любовь остыла, потому что Оля столь же пылко полюбила Лобанова и они потом поженились, а теперь, через тридцать лет после войны, оба состарились, нажили внуков. И он, Лобанов, год просуществовав в областном центре, часто Нефедова вспоминая, так и не послал ему ни одного письма, ни разу не вырвался проведать. «Бумаги, командировки, пленумы, заседания, – зло думал Дмитрий Петрович, – а двух часов, чтобы доехать до Невска и обнять фронтового друга у тебя не хватило. Эх ты, а еще депутат, слуга народа. Как ты мог, как ты мог забыть этого прекрасного человека! – Он достал зажигалку и папиросу, нервным движением высек огонь. – Все можно исправить, но эту ошибку уже нет, и никакое раскаяние теперь тебе не поможет».
Он курил папиросу за папиросой и, не находя себе прощения, шептал:
– Как же ты мог, Дмитрий, как мог!