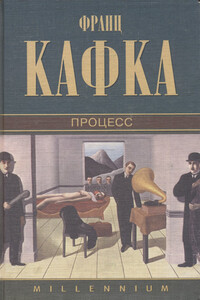Письма к Милене | страница 67
Только одной возможности не существует – и что бы я ни болтал, это ясно, – возможности того, что ты сейчас войдешь и будешь здесь и мы основательно побеседуем о твоем выздоровлении; а ведь именно эта возможность – самая настоятельная!
О многом я хотел тебе сегодня сказать, прежде чем прочел письмо, но что можно сказать, когда – пошла кровь? Пожалуйста, сразу напиши мне, что сказал врач и что он за человек.
Сцену на вокзале ты описала неверно, я не колебался ни секунды, все было так бесконечно печально и прекрасно, и мы были совсем одни, и было что-то непостижимо комическое в том, что люди – которых там не было! – вдруг взбунтовались и потребовали открыть ворота на перрон.
А вот перед гостиницей все было так, как ты говоришь. Ты была там такой красивой! А может, то была вовсе не ты. Ведь это очень странно, что ты так рано встала. Но если это была не ты, откуда же ты так точно все знаешь?
Понедельник, позднее
Ах, так много документов пришло именно сейчас. И для чего я работаю, вдобавок на невыспавшуюся голову. Для чего? Для кухонной печки.
Теперь еще и поэт, первый, он к тому же гравер по дереву, офортист, и не уходит, и столько в нем жизни, что он все вываливает на меня и смотрит, как я дрожу от нетерпения, рука на этом письме дрожит, голова у меня уже упала на грудь, а он не уходит, добрый, живой, счастливо-несчастливый, замечательный, но для меня как раз сейчас ужасно обременительный юноша. А у тебя кровь идет изо рта.
Вообще-то мы все время пишем одно и то же. То я спрашиваю, не больна ли ты, потом ты пишешь об этом, то я хочу умереть, то ты, то я хочу плакать перед тобою как маленький ребенок, то ты передо мной, опять же как маленький ребенок. И один раз, и десять, и тысячу, и всегда я хочу быть с тобой, и ты говоришь так же. Довольно, довольно.
И по-прежнему нет письма о том, что сказал врач, ты медлительная, нерадивая корреспондентка, злая, милая – ну, что же еще? Ничего, затихнуть у тебя на коленях.
Понедельник, после обеда
Я был бы лжецом, если б не решился сказать еще больше, чем в сегодняшнем утреннем письме, – лжецом особенно перед тобой, с которой я говорю так свободно, как ни с кем другим, потому что никто еще так меня не поддерживал – зная и прощая, – как ты, вопреки всему, вопреки всему (и не путай это столь весомое «вопреки всему» с твоим столь весомым «и все-таки!»).
Среди твоих писем всех прекрасней (и этим много сказано, поскольку они все вообще, чуть ли не в каждой строчке, самое прекрасное из всего, что со мной случалось в моей жизни) – итак, всех прекрасней среди них те, в которых ты оправдываешь мой «страх» и одновременно пытаешься внушить мне, что он неоправдан. Я ведь тоже, хоть, наверное, и произвожу порой впечатление подкупленного адвоката своего страха, в глубине души, кажется, искренне его оправдываю – я ведь целиком из него состою, и он, возможно, лучшее, что во мне есть. А поскольку он самое лучшее во мне, то, возможно, его-то единственно ты и любишь. Ведь что уж во мне такого особенного можно любить. А его – можно.