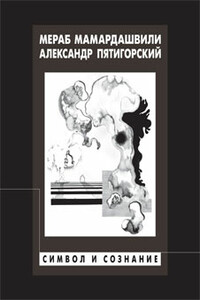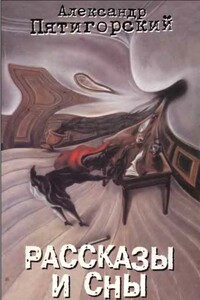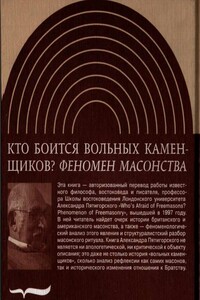Вспомнишь странного человека | страница 45
Схема европейского Романа Самосознания (другого пока не было, это – весьма узкий географически жанр) очень проста. Его герой оттого и герой, что сам не пишет романа. А если пишет, то не напишет. А если напишет, то не напечатает. А если даже и напечатает, то весь тираж сгорит или размокнет во время наводнения, или еще чего-нибудь в этом роде. Писание романа здесь есть тот бытийный, а не психологический признак, который разделяет Героя и Автора. Автор оттого и автор, что не может писать сам, пока не он, а другой, т. е. герой Романа Самосознания не «начнет» этого делать (но не наоборот – здесь, как и в случае с двойником, нет симметрии!).
Михаил Иванович сам был героем своего ненаписанного романа. Не отсюда ли – в порядке поэтической метонимии жизни – его неожиданное решение начать новое, «совсем новое» издательство? И не отсюда ли его идея искусства – не «чистого», не «искусства для искусства», а истинного, одного без другого? Но так или иначе, а в 1912-м происходит его первая встреча с Поэтом, и начинается их любовь.
Все это пока – не об именах. Имя включается в игру только когда играющий знает, что проиграл, или решает, что игра не стоит свеч. Он уходит и – называет себя. А так, если ты остаешься с ними, с нами, со своими, то имя зачем, к чему? Тупые, бездарные игроки начала века, выбившие огнем, свинцом и газом чуть ли не треть мужского населения Европы и сами выбитые едва ли не до последнего – не от того ли их пристрастие к псевдонимам, партийным кличкам и смене имен, что конец им был заранее предсказан в бирках с номерами вместо имен, перемешанных с обломками костей в мусоре и пепле? Но наихудшей была доля тех немногих выживших игроков, кто, не подозревая, что их игра давно кончена и давно начата другая, безымянные маялись по чужим им десятилетиям. Призраки, напялившие на себя полковничьи и генеральские мундиры давно разбитых или никогда не существовавших армий! Еще позднее, когда сжатая с немыслимой силой пружина истории разжалась и выбросила их в смерть, кого почетными пенсионерами, кого военными преступниками, а кого и нобелевскими лауреатами, их выцветшие, перепутанные имена всплыли, как вешки, над мутными водами забвения, никого не предостерегая, ни о чем не напоминая.
Михаил Иванович родился с именем, абсолютная неотменяемость и несменяемость которого была предопределена уникальностью обстоятельств его рождения. Единственному сыну в третьем поколении знаменитых богачей-самородков, еще в юности потерявшему отца, оставалось одно – выбирать из чего угодно и делать решительно что угодно. Но кроме его богатства было и то, что при любом выборе и в любой игре оставалось навечно отложенным основным капиталом: семья, состояние, страна. Игр тоже было три: просто игра в рулетку, реже – в винт и покер, любовь и политика. В последней все много неопределеннее, чем в первых двух, и метафорой едва ли отделаешься, но посмотрим, у нас еще есть время. Но так ли уж его было много у него самого? Век торопил с предательством. Не тогда ли этот молодой человек принял три завета. Первый – парировать страсть к игре крайней скрупулезностью в делах. Второй – умерять влечение к женщине преданностью искусству. Третий облагораживать политическую сумятицу верностью рыцарским идеалам невинности и чести. Спасла ли его от падения эта перевернутая брюсовская формула? Да и спасла ли от падения самого Брюсова его неперевернутая? Но, как заветы Валерия Павловича молодому поэту даже при их выполнении никак не могли гарантировать качества поэзии, так и заветы Михаила Ивановича себе самому не могли ему дать ни малейшей гарантии покоя или хотя бы, воли...