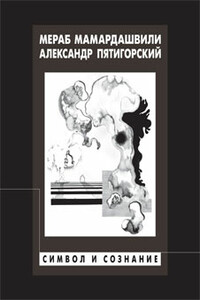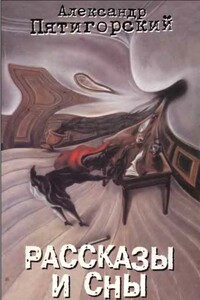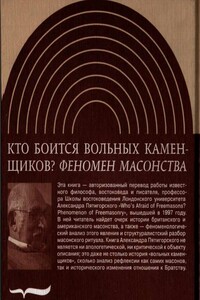Вспомнишь странного человека | страница 42
На платформе досада прошла. Пьер и есть сюжет. Не катастрофическое его завершение, а единственное реальное его начало в необходимости обратного движения. Непоколебимый Пьер был стороной отчаяния молодого Михаила Ивановича задолго до своего зачатия, когда тот, глядя в пустые прекрасные глаза своей смерти, уже видел в них обоих своих сыновей. Так в жизни, как и в романе, ужас уступает место самокомментированию.
Пьер и младший, Иван, расположились бы вполне комфортабельно по сторонам парасимметрической оси жизни своего отца, спокойно продвигаясь вдоль нее параллельно друг другу, если бы не «биографический радикализм» Михаила Ивановича (сродни его радикализму политическому): старший сын был сразу же им отброшен в бесповоротно отринутое прошлое юности, войны и России, а младший до конца оставался «подвешенным» в зыбком чужеродном будущем другой войны и другого мира.
Во всем этом мне не видится никакого противоречия. Просто жил человек, одаренный талантом, богатством и удачей. Любя свой мир, он знал, что этот мир несет в себе условия своего собственного уничтожения. И что, хотя конец неизбежен и близок, можно все ж-таки, попытаться что-то из него сохранить для мира следующего, чтобы тому не пришлось начинать все заново, с полного скотства и беспамятства. Так что Михаил Иванович мог бы даже считаться своего рода духовным оптимистом – отсюда и ранние его «духовные» же приключения в Москве и Петербурге. Однако в тот же период случившиеся с ним крайне личные события и обстоятельства заставили его увидеть и в себе самом те же признаки наступающей катастрофы, которые он видел вокруг.
Пока же – пока еще не родились в тот «новый» мир ни тяжелый, непроницаемый Пьер, ни зефирно-легкий до всепроницаемости Иван, – возвратимся в фантасмагорический Петербург десятых годов ныне завершающегося века, назад – в «хорошее и глупое» время Поэта.
Глава 9
Хорошее и глупое время поэта
«Я еще хотел сказать о цели предостережения...»
Б. Пастернак
Наиболее известный Михаил Иванович, петербургскопетроградский, остается за пределами моего воображения. Когда пытаешься думать о нем «по источникам», пропадает не только интонация (моя, а не его), но и сам сюжет рефлексивного романа. Сюжетное действие разворачивается по оси «наблюдение – действование», где «наблюдатель» и «действователь» являются не только двумя противоположными сценическими характерами (dramatis personae), но и, что гораздо важнее, двумя полюсами меня самого. Мне ли не знать, сколь быстро рождающийся во мне импульс к действию вырождается в отстраненность наблюдения, словно бессильно уступая врожденному страху поражения и желанию пересидеть на нейтральной территории время решающего сражения. Я не могу быть только наблюдателем, а он – как я думаю теперь – не мог им быть вообще. Мое действие кончилось. Сюжет остановился и замер.