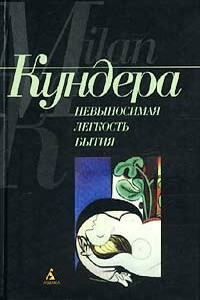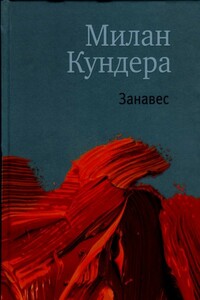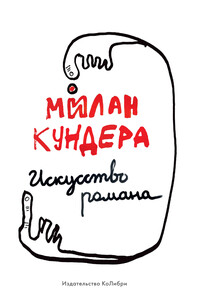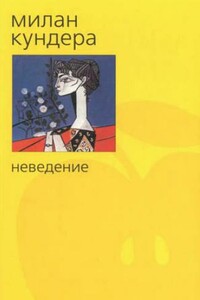Нарушенные завещания | страница 33
Доктрина социалистического реализма, которая спустя два века будет душить на протяжении полувека музыку в России, утверждала именно это. Так называемым композиторам-формалистам ставилось в вину пренебрежение мелодией (главный идеолог Жданов возмущался тем, что их музыку невозможно насвистывать, выходя с концерта); их увещевали, что они должны выражать «всю палитру человеческих чувств» (модернистскую музыку, начиная с Дебюсси, порицали за неспособность добиться этого); в умении выражать чувства, которые реальность пробуждает в человеке, усматривали (совсем как Руссо) «реализм» музыки. (Социалистический реализм в музыке: принципы второго тайма, претворенные в догмы, дабы воспрепятствовать модернизму.)
Безусловно, самую суровую и глубокую критику Стравинского мы находим у Теодора Адорно в его знаменитой книге Философия новой музыки (1949). Адорно описывает положение в музыке, как если бы речь шла об арене политической борьбы: Шёнберг — положительный герой, представитель прогресса (даже если речь идет, если так можно выразиться, о трагическом прогрессе в эпоху, когда прогресс уже невозможен), а Стравинский — отрицательный герой, представитель реставрации. Отказ Стравинского усматривать смысл музыки в субъективной исповеди становится одной из мишеней критики Адорно; эта «антипсихологическая ярость» является, по его мнению, формой «безразличия по отношению к миру»; желание Стравинского внести объективность в музыку есть своего рода молчаливое соглашение с капиталистическим обществом, которое растаптывает человеческую субъективность; поскольку «музыка Стравинского как раз и прославляет уничтожение личности», ни больше ни меньше.
Эрнест Ансерме, превосходный музыкант, дирижер и один из первых интерпретаторов произведений Стравинского («один из самых моих преданных и верных друзей», как говорит Стравинский в Хронике моей жизни), позднее превратился в самого непримиримого его критика; его замечания радикальны, они нацелены на «смысл музыки». По мнению Ансерме, «источником музыки всегда являлась скрытая эмоциональная деятельность человеческого сердца»; в выражении этой «эмоциональной деятельности» лежит «этическая сущность» музыки; у Стравинского, который «отказывается быть вовлеченным в акт музыкального самовыражения», музыка, «следовательно, перестает быть эстетическим выражением человеческой этики»; таким образом, например, «его Месса является не выражением, а портретом