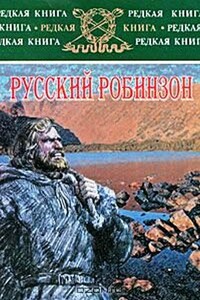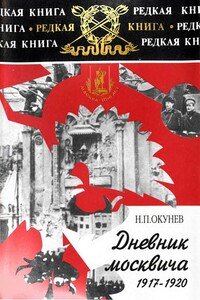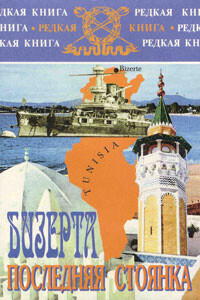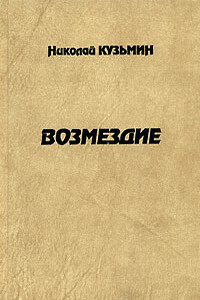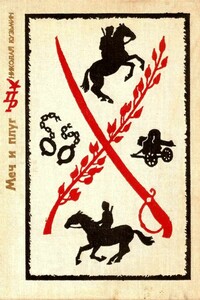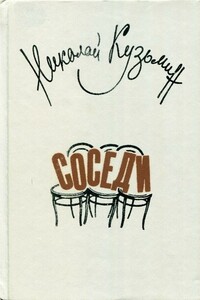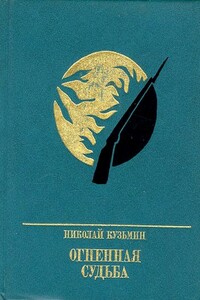Генерал Корнилов | страница 115
И все-таки Сухомлинов, докладывая царю итоги этой важной военной игры, сиял. Он считал, что настоящая угроза для России исходит не от Германии, а от Японии. Все внимание требовалось обратить на Дальний Восток. Западную же границу он предлагал сделать «совершенно мирной». С чего начать? Скорей всего с упразднения крепостей Ивангорода и Новогеоргиевска.
А до начала войны оставалось менее трех месяцев…
– Ну хорошо, – сказал Корнилов, – а что показала Крымская война?
Тогда, осенью 1854 года, русское командование продемонстрировало всему миру свою полнейшую беспомощность. Военный министр князь Долгоруков и министр государственных имуществ Киселев оставили армию без пороха, без сапог и провианта. Главнокомандующий армией в Крыму князь Меншиков не позволил русскому флоту выйти в море и затопил все боевые корабли на рейде Севастополя. А ведь и года не прошло, как эти же самые корабли наголову разгромили турецкий флот в Синопе!
– Предатели, – брюзжал Мартынов.
Он считал, что в русской армии война стала занятием глубоко равнодушных людей. Не воюют, а служат, тянут лямку. «Все прогнило к черту!»
Больше всего старик бранил никудышного царя Николая П. Как трагически не везет России! В такие годы и во главе такой державы должен находиться исполин, равный Петру Великому или на худой конец Наполеону. Молодой же государь, к великому сожалению, не унаследовал даже качеств своего так рано умершего родителя. Николай II, человек прекрасный по своим душевным качествам, самой природой не был создан для управления такой махиной, как Россия. Трон для него – обуза, бремя наследственной власти. Он с удовольствием пилил дрова, чистил снег, с удовольствием выпивал рюмочку с устатка… Обыкновенный российский обыватель. А между тем на его плечи была взвалена великая страна, да еще в такие грозовые годы!
Отступление русских войск порождало у обоих генералов мрачные предчувствия. Неподготовленность к большой войне России продолжала сказываться все ощутимей. Быстрой победы не получилось.С некоторых пор в лагерях военнопленных, где содержались русские офицеры, стали распространяться рукописные журнальчики: несколько листочков, скрепленных в уголке. От журнальчиков сильно шибало пораженчеством. Неведомые авторы упорно вдалбливали в головы пленных сознание бесполезности сопротивления. Больше того, исподволь проводилась подлейшая мысль, что для военного человека нет большей доблести, как именно в настоящее время выступить против своего государя, против своей армии, своего народа. На родине все более ожесточалась борьба Государственной думы с правительством. Журнальчики без всяких оговорок стояли на стороне крикливых думцев. Без конца мелькали имена Гучкова, Милюкова, Терещенко, Некрасова – за короткое время в России успела вызреть целая популяция политических говорунов, без всякого зазрения совести рвущихся к кормилу великой державы.