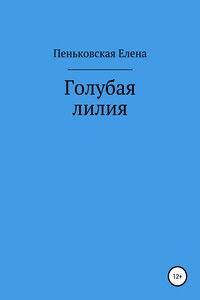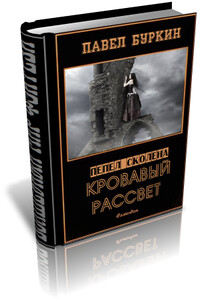Ночь эльфов | страница 74
– Она говорила со мной, – прошептал Утер.
– Я знаю, Кариад. Но пойдем поищем гнома, пока они его не прикончили.
Стоя рядом на коленях в молельне королевы[6] перед статуей Пресвятой Девы, на которую падал слабый свет из высокого витражного окна, они молились. Комната, расположенная рядом с молельней, благоухала свежим ароматом роз, лепестками которых посыпали пол каждое утро. Было прохладно, но епископ Бедвин обливался потом. Игрейна не осмеливалась даже до конца додумать свою кощунственную мысль, особенно в отношении Божьего человека,– но от него воняло. Запах пота был резким, словно запах прокисшего вина. Вдобавок епископ шумно сопел и отдувался, как кузнечные мехи, будто прошел десяток лье. Королева сдержала улыбку и попыталась сосредоточиться на «Аве Мария». Но она уже произнесла молитву столько раз, сколько у нее было четок, и к тому же у нее было неотвязное ощущение, что епископ Бедвин, опустивший голову на скрещенные руки, а широко расставленные локти – на перекладину молитвенной скамеечки и закрывший глаза, никак не проспится с похмелья. Она быстро перекрестилась и поднялась, чуть отодвинув молитвенную скамеечку, которая скрипнула по каменному полу. Потом приподняла тяжелую ковровую занавесь, отделявшую молельню от комнаты, и вышла. Занавесь опустилась с глухим хлопком.
Если епископ действительно спал, то сон его был глубок – или же многолетний опыт приучил его не вскакивать сразу в подобных обстоятельствах. Он слегка пошевелился, на секунду приоткрыл глаза, а потом продолжал молиться еще несколько минут, в то время как юная королева, растерявшись, вернулась, не зная, что ей делать, и боясь даже шелохнуться, из страха потревожить святого отца.
Наконец он перекрестился, смиренно склонив голову, с трудом поднялся и испустил тяжелый вздох. Бедвин с самого прибытия в Лот был обременен атрибутами своей высокой должности: на нем были епитрахиль, риза, митра и тяжелый крест, он носил длинное одеяние с высоким воротником, которое придавало ему скорее вид знатного господина, чем священнослужителя, и в котором он по такой жаре едва мог дышать. Проведя пухлой рукой по темным волосам, заботливо ухоженным и даже слегка завитым, и густой бороде клином, призванной скрыть толщину двойного подбородка, он повернулся к Игрейне, улыбнулся ей и, избегая ее вопросительного взгляда, вышел из молельни, приблизился к окну и, кажется, углубился в созерцание открывающегося вида. Затем с явной неохотой отошел и сел на скамейку, покрытую узорчатой гобеленовой тканью. Наконец, взглянув Игрейне прямо в глаза, он сделал ей знак сесть рядом с ним.