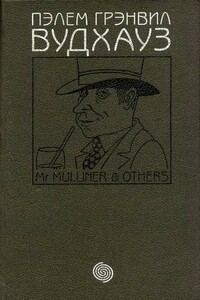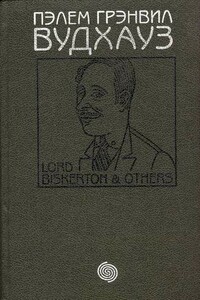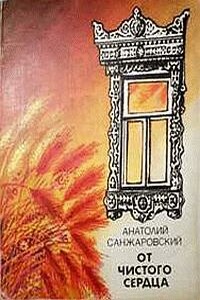Первое мая | страница 30
— Нет… — Она замялась. — Но я вдруг подумала о том, как этот бал, на котором я сейчас была… насколько это несовместимо с тем, к чему ты стремишься. Это выглядит как-то странно, нелепо, не правда ли, — я там, на этом балу, а ты здесь, трудишься во имя того, что должно на веки вечные покончить со всякими такими вещами, как этот бал… если только твои идеи осуществятся.
— Я смотрю на это иначе. Ты молода и живешь так, как тебя научили жить, как тебя воспитали. Расскажи лучше, хорошо ли ты повеселилась?
Она перестала болтать ногами и слегка понизила голос:
— Я бы хотела, чтобы ты… чтобы ты возвратился в Гаррисберг и развлекся немного. Ты уверен в том, что ты на правильном пути?..
— У тебя очень красивые чулки, — перебил он ее. — Что это за чулки такие удивительные?
— Они вышитые, — отвечала Эдит, поглядев на свои ноги. — Прелесть, правда? — Она приподняла юбку, обнажив стройные, обтянутые шелком икры. — Может, ты не одобряешь шелковых чулок?
Он пристально поглядел на нее, и в его темных глазах промелькнуло раздражение.
— Ты, кажется, стараешься изобразить дело так, будто я осуждаю тебя, Эдит?
— Вовсе нет.
Она умолкла. Бартоломью что-то проворчал. Эдит оглянулась и увидала, что он вышел из-за стола и стоит у окна.
— Что там такое? — спросил Генри.
— Какие-то люди, — сказал Бартоломью и прибавил, помолчав:
— Да сколько их! Приближаются сюда со стороны Шестой авеню.
— Люди?
Толстяк уткнулся носом в стекло.
— Солдаты, черт побери! — воскликнул он. — Я так и думал, что они вернутся.
Эдит соскочила со стола и, подбежав к окну, стала рядом с Бартоломью.
— Да их там уйма! — вскричала она. — Подойди сюда, Генри.
Генри снял козырек, но не двинулся с места.
— Может, лучше потушить свет? — предложил Бартоломью.
— Нет, они сейчас уйдут.
— Они не уходят, — сказала Эдит, глядя в окно. — И не думают уходить. Их все больше и больше. Смотрите, сколько их там — на углу Шестой авеню!
В желтых лучах уличных фонарей, отбрасывавших синие тени, было видно, как противоположный тротуар заполняется людьми. Большинство из них были в форме, — одни трезвые, другие сильно на взводе, — и над всей этой толпой стоял глухой гомон, а порой раздавались нечленораздельные выкрики.
Генри встал, подошел к окну, и, когда его высокий силуэт отчетливо вырисовался на светлом фоне, голоса, доносившиеся с улицы, мгновенно слились в неумолчный вой и оконное стекло задребезжало под ударами запущенных в него папиросных коробок, окурков и даже мелких монет. В парадном повернулась вращающаяся дверь, и шум ворвался на лестницу.