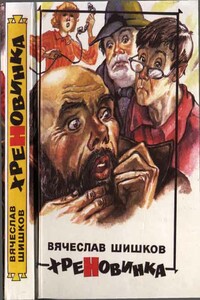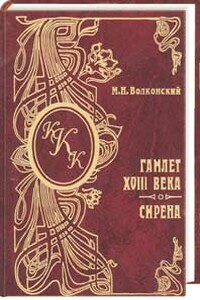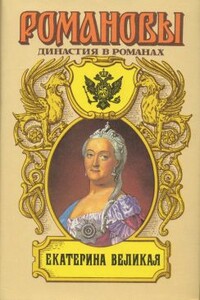Ватага | страница 19
— А правда ли, Зыков, что тебя и пуля не берет?
— Правда. Ни штык, ни пуля, ни топор.
— Кто же тебя, ведун заговорил?
— Сам. Я ведь сам ведун.
Гараська захохотал:
— Ты скажешь… А пошто же хрест у тя? Сам ночесь видал, спали вместе.
Тот молчал.
— Быдто тебя летом окружили чехо-собаки, в избе быдто, а ты взял в ковш воды, сел в лодочку да и уплыл. Старухи сказывали.
— Врут. Это другие разбойники так делывали: Стенька да Пугач.
— А ты, Зыков, нешто разбойник?
— Разбойник.
— О-ой. Врешь! Те — атаманы. А ты нешто атаман?
— Атаман.
— Нет, ты воин, — сказал Гараська. — Ты за народ. У тебя войско. Ты войной можешь итти… Ты как генерал какой… Тебя народ шибко уважает. Про тебя даже песня сложена.
— Спой.
Гараська засмеялся и сказал:
— Да я не умею… Чижолый голос очень, нескладный… Ежели заору, у коня и у того со смеху кишка вылезет.
Долина все сужалась. Желтые, скалистые берега были изрыты балками и, как зубастые челюсти, все ближе и ближе сходились, закрывая пасть. На обрывах лес стоял стеной. Солнце ярко било в снег. Следы зверей и зверушек чертили рыхлые сугробы. Небо бледное, спокойное, наполненное светом и тишиной. Мороз старается щипнуть лицо. Очень тихо. Скрипучий снег задирчиво отвечает некованным копытам. Две вороны, по горло утонув в снегу, повертывают головы на всадников. Сорока волнообразно пересекла долину и с вершины елки задразнилась. Взлягивая прожелтел бесхвостый заяц. Сел. Уши, как ножи, стригут.
— А ты, Зыков, уважаешь с бабами греться? — Гараська смешливо разинул рот, повернул голову и насторожил припухшее, укушенное морозом ухо.
— Когда уважаю, а когда и нет…
— А я завсегда уважаю… — облизнулся Гараська и в волненьи задышал.
— У меня на этот счет строго. — И, обернувшись, погрозил парню. — Имей в виду.
— Гы-гы-гы… Имею…
Они повернули от Плотбища в горелый лес.
В это время соборный колокол в городке заблаговестил к молебну.
Глава 5
Небольшой собор битком набит народом. Людской пласт так недвижим и плотен, что с хор, где певчие, кажется бурой мостовой, вымощенной людскими головами.
Редкая цепь солдат, сзади — мостовая, впереди — начальство и почетные горожане.
Все головы вровень, лишь одна выше всех, торчком торчит, — рыжая, стриженая в скобку.
Служба торжественная, от зажженного паникадила чад, сияют ризы духовенства, сияют золотые погоны коменданта крепости поручика Сафьянова, и пуговицы на чиновничьих мундирах глазасто серебрятся.
Весь чиновный люд, лишь третьегодняшней ночью освобожденный из тюрьмы, усердно молится, но радости на лицах нет: ряды их неполны: кой-кто убит, кой-кто бежал, и что будет завтра — неизвестно.