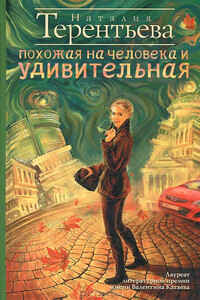Лошадь на крыше | страница 66
И будет все, как будто бы под небом и не было меня, ревущей, возвращающейся ночью через всю Москву пешком, бессмысленной и ненужной. Потому что Комаров сказал:
— Уходи. Зачем ты притащилась, если сбоку ты теперь похожа на дорожный знак «лежачий полицейский»? Какая из тебя теперь любовница? А в другом жанре ты мне непонятна и неинтересна. Лучше бы отца ребенку искала, чем ко мне по ночам таскаться. Ребенок должен расти в полной семье, должен быть одет; накормлен и согрет. Ты же знаешь, я — порядочный человек. Я ведь не сбежал. Я специально выбрал время и приезжал к тебе, чтобы официально, по-человечески отказаться. Тебе этого мало? У меня — ты, кажется, в курсе — взрослая дочь. Я не могу любить еще и вот это. — Он, не дотрагиваясь, показал на зародыша, доверчиво копошащегося у меня в животе и вздрагивающего при звуке его нервного голоса. — Не могу и не смогу. Так что уходи.
И вот я, неинтересный Комарову дорожный знак, знак одиночества, иду по ночной Москве, шагаю, как утка, переваливаясь с боку на бок по мокрому асфальту. А мимо скользят смелые и порядочные Комаровы-Шмелевы-Мухины на серебристых «кадиллаках» и скрипучих «жигулях», с новыми, интересными по жанру, девушками и старыми, привычными по жанру, женами. Самые одинокие и любопытные автомобилисты притормаживают, но, присмотревшись к моему волнообразному туловищу, спешно ретируются, обдавая меня теплыми брызгами из луж.
Они все едут и едут, усталые, глупые, издерганные, стареющие, и у нет них в животе такого специального места, где можно выращивать человека. А я гордо переваливаюсь, не смотрю по сторонам, чтобы не споткнуться в темноте, и слушаю одну и ту же незатейливую песенку, звучащую из всех машин: «Любовь здесь больше не живет, любовь здесь больше…» Я подставляю лицо последним каплям долгожданного короткого дождя и жалею, что лужи так быстро испаряются с испепеленной трехнедельной жарой земли.
«Любить и кормить не смогу…»
А я смогу. Мой малыш… Это для других ты — будущий, для меня — настоящий. Какой же ты будущий, если ты уже шевелишься, дышишь, замираешь и чувствуешь биение моего сердца? А я чувствую биение твоего…
Я смогу тебя любить и кормить. Я уже тебя люблю и очень жду. И когда-нибудь, может быть, я решусь рассказать тебе о том, как ты был зачат.
В ту ночь твой папа, надувшись шампанского, признался мне:
— Ты сделала меня счастливым. — И трезвея от собственных слов, тут же спохватился и уточнил: — В плане секса. Понимаешь?