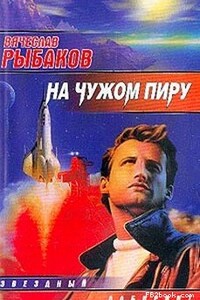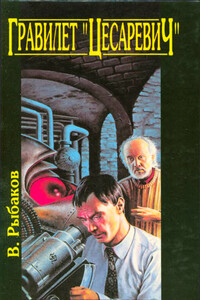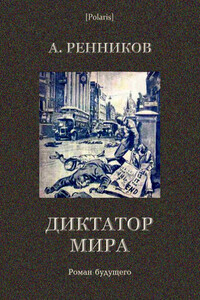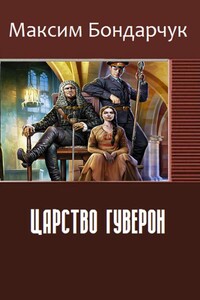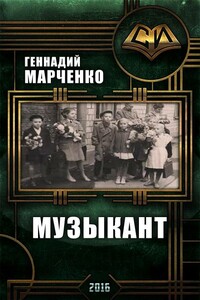Человек напротив | страница 33
Симагин пригубил чай.
– Не созрела еще для бутерка?
– Нет, спасибо… Андрюша, – старательно вдавила она во фразу его имя, и он, ощутив это, с пониманием взглянул ей в глаза и улыбнулся как-то особенно тепло.
– Не за что… Асенька, – ответил он ей в тон, и у нее стало совсем легко на душе. Нет, подумала она, я для него не муравей. – Понимаешь, какой-то смысл в твоих словах есть, безусловно… Но все же есть в них что-то и от сермяжной правды человека, который грамоте не знает, оттого и проку в этих закорючках, которые буквами зовутся, не видит ни малейшего. Не ровен час, для такого наблюдателя дергающийся в петле висельник покажется человеком куда более активным и способным к действию, нежели сидящий с отсутствующим взглядом заморыш, сочиняющий: ту би, ор нот ту би – зэт из зэ куэсчн…
– Ну, знаешь, – Асю задело за живое. – Помимо способности писать "Гамлетов" этот заморыш еще и довольно неплохо шпажонкой помахивал, кажется! Если в том возникала нужда!
– Что такое – нужда? – спросил Симагин.
– Ой, вот только этой метафизики не надо!
– Хорошо, на тебе физику. Все мы уже много десятилетий живем как на зоне, и система ценностей зоны нас просто подмяла. Даже таких вроде бы культурных, интеллигентных людей, как ты. Причем ты сама даже не отдаешь себе в этом отчета. Просто активностью ощущается теперь лишь активность барака: махоркой разжился, стукача в нужник спустил, вертухая обманул, мастырку классную поставил, так что пару дней теперь на работы не погонят… Не выше.
Ася помолчала, потом ответила с тихой тоской:
– Но что же делать, если мы действительно живем как на зоне? Выжить бы – а остальное уже роскошь. Ведь нельзя чувствовать нарочно. Я не могу заставить себя мечтать о том, о чем в действительности не мечтаю, любить того, кого в действительности не люблю…
И опять она осеклась. Не следовало, наверное, при Симагине говорить о любви… вернее, о нелюбви. Бестактно. Но Симагин был, похоже, непробиваем. Он изменился, подумала Ася. С виду – нет, а на самом деле такая железяка внутри чувствуется…
– Влюблен по собственному желанию, – невозмутимо сказал Симагин. – Добр по собственному желанию. Щедр по собственному желанию. Сострадателен по собственному желанию. Звучит абсурдно, согласен. Парадоксально, вернее. Но ПО ЧЬЕМУ ЖЕ ЕЩЕ желанию мы можем стать добрыми, щедрыми и прочее? Мир всегда, Ася, всегда будет стараться сделать нас злобными и скупыми. Конечно, невозможно враз, сей секунд, почувствовать то, чего не чувствуешь. Мы привыкли, что это злостное и, как правило, подлое лицемерие – делать вид, будто чувствуешь то, чего не чувствуешь. Потому что мы всю сознательную жизнь прожили среди предельного лицемерия. Это одна правда. Сиюминутная такая, митинговая. Но, по большому-то счету, история культуры есть история развития действенных методик переплавки естественных, то есть животных, желаний и ощущений в так называемые человеческие, то есть по отношению к простому выживанию как бы лишние. Умирание культуры – это ситуация, при которой такая переплавка начинает давать сбои. Именно тогда воспитанное поведение оборачивается лицемерным. Ну, и самые искренние люди, искренне стремясь к добру, начинают кричать: долой лицемерие! А тут уж моргнуть не успеваешь, как все с удовольствием начинают оправдываться необходимостью выжить – потому что по законам джунглей жить проще. Страшнее, но проще, ведь не требуется духовного напряжения. Обрати внимание: ты же не вздохнула с тоской по поводу того, что мечтать, как в детстве мечтала, теперь не можешь. У тебя, наоборот, сразу агрессия: болтуны! Не способны гвоздя убить! То есть, пардон, врага забить…