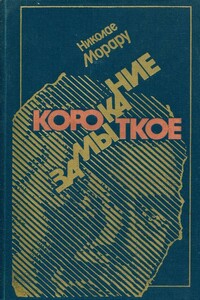Две строчки времени | страница 51
Пришли.
— Ты помнишь, когда отходит поезд?
— В одиннадцать.
— Остановка?
— Третья.
— И кто встретит вас на высокой платформе?
— Ты и твои два друга. До завтра, милый!..
3
Жил я в Переделкине.
Не в писательском поселке, как мог бы вообразить теперешний западный читатель, знакомый с Переделкиным по биографии Пастернака, но — просто снимал две комнаты в полуизбе-полудаче, торчащей довольно голо между железной дорогой и парком.
Этот старый парк с вытекшими прудами, владение некогда Колычевых-Бодэ, был мой давний знакомый. В конце двадцатых годов происходил там большого размаха пионерский праздник. Тысячи детей; вечером — плошки между деревьями, костры на прогалинах, песни и сладкий запах горелой хвои. При факелах же и плошках разыгрывали там мою пьеску в стихах. Первый мой опус, которого не переставал бы стыдиться, если бы думал, что где-нибудь мог еще сохраниться хотя бы один экземпляр…
К. северу за парком был большой, как озеро, рытый пруд, вилась мельчайшая речка Сетунь, а пройти с полчаса подальше — в лиловой дали перелесков золотел купол тогда еще не взорванного Храма Христа Спасителя.
Я любил эту дорогу и ее немудреный пейзаж: сквозистый осинник, горстями разбросанный за канавой и телеграфными столбами, суглинистые обрывы в сосенках и можжевельнике, по осени забрызганные рябиной. Пейзаж этот, перенесенный на полотно, иронически называют «яичницей с луком», но подлинный, осенний особенно, он хватает вас за сердце.
Кстати: рябина росла и у меня под окном; сейчас уже — вся в налившихся оранжево-красных лапках; стаи пичуг совершали на нее налеты, и хозяйка пугала их по утрам.
О хозяйке:
Я называл ее по отчеству: Ниловна, хоть ей было всего за тридцать, а она меня, тоже шутейно, звала Петровичем. Кажется, муж ее отбывал где-то, не слишком далеко, принудительные работы — она ездила к нему каждый месяц. Коренастенькая, вся — от икр до щек — в упругих округлостях, она была проворна и весела, проста и охоча посочувствовать.
Мне она казалась тогда образцом ладной российской бабы, еще не искаженной городом. Зная, что я разошелся с женой и находя, вероятно, мое одиночество слишком задумчивым, она как-то вечером, после «доброй ночи!», добавила, задерживаясь на пороге: «Не изводи себя слишком-то. Если уж больно тошно одному, я к себе пущу»…
Знаю, что сказали бы по этому поводу остряки и фрейдисты, но я слышал в ее голосе чисто материнские нотки, и она никогда после не выказала обиды, что не воспользовался ее добротой.