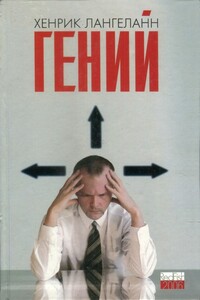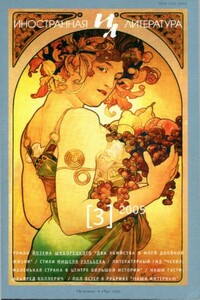Две строчки времени | страница 50
Она восхитительно слушает, Юта, — драгоценное для авторов и рассказчиков качество!
С реки начинает тянуть сырым холодком, и я набрасываю ей на плечи свой пиджак. Она ласково отводит с себя мои бережно-жадные руки.
— Милый, поговорим о завтра! — просит она.
«Завтра» знаменательно тем, что я впервые пригласил Юту и ее родителей к себе за город. Завтра — мои именины, обнаруженные ею в святцах, — сам я о них позабыл. Должен состояться обед, который уже вчерне обсужден, но в подробностях, то есть что к чему, кто что ест и кому чего нельзя ни под каким видом, — в подробностях мы обсуждали его этим вечером без конца. Думаю, это обсуждение было приятно нам, грядущим молодоженам, а за свое умиление хозяйски сведенными бровями Юты я готов был вытерпеть самые ядовитые насмешки.
Обсуждалось и другое: еще два на именинном обеде гостя: скульптор Р. и доцент Саша — самые близкие мои в те годы друзья, о которых речь дальше.
В общем, тронулись мы уже затемно — в обрез, чтобы проводить мне Юту домой и поспеть на поезд.
Шли сквозь ночную Москву, чей воздух, огни на реке, чуть багровеющее над Кремлем небо я любил более всех других ее достояний.
Шли молча, и по молчанию Юты я видел, что «завтра» по-прежнему занимает ее. Может быть, думал я, ей сейчас, как и мне, непонятно, почему родители не разрешили ей приехать ко мне с утра — все приготовить получше, чтобы не нужно было заниматься этим моей квартирной хозяйке. Да, может быть, ей было чуть неловко за них — она несколько раз слегка прижималась щекой к моему плечу, и так восхитительно было это ласковое прикосновение, так чудесно белел в полутьме ее профиль рядом, что мне, как какому-то, не помню, бунинскому герою, хотелось от счастья закричать «ура!» и расцеловать ее накрепко, забыв о прохожих. Но я знал, что это ее испугает.
Об этом «испугает», вероятно, и думал, если вообще можно припомнить, о чем думал человек в один августовский вечер четверть века назад. О том, может быть, что некое особое, недидактическое целомудрие было у Юты в крови, что родиться ей нужно было бы задолго до октябрьской катастрофы, что в русской литературе она больше всего любила тургеневское «Дворянское гнездо» и гончаровский «Обрыв», а в западной — «Отверженные»…
Зубовская площадь. Девичье поле… Аллеи и площадки, почти доверху залитые потемками; где-то справа, тоже в потемках, безрукий Толстой, а напротив вдали сквозит меж деревьями рыже освещенный фонтан академии Фрунзе.