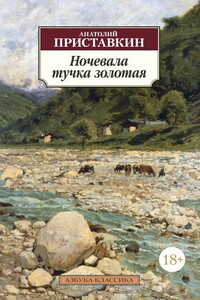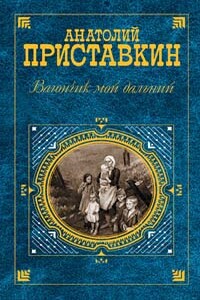Тихая Балтия. Латышский дневник | страница 66
То десятикратно прополотое от инакомыслия поле, где что-то, пусть жидко, пусть отдельными чахлыми кустиками, росло, было окончательно вспахано в двадцатые годы при помощи репрессий, чтобы не только семечка живого, а памяти не осталось, но было лишь то, что искусственно посеяно под надзором такого великого селекционера-агронома большевиков, как ЧК-МВД-КГБ, и именуемое в дальнейшем «советской литературой» с психологией рабско-крепостной, с характером обслуги, которая живет от подачек и другого дела не знает, как воспевать эту большевистскую власть в наиболее громкой, доступной для нее форме. Так объявились в ней марковы, кожевниковы, сартаковы, и принцип отбора по образу себе подобных (та же агрономическая селекция под руководством того же агронома) действовал десятилетиями, практически до наших дней. Чего же тут удивляться, что поточный стахановский метод, начатый, увы, основоположником соцреализма Алексеем Максимовичем, привел к засилию творческого Союза нетворческими людьми. Да я лично, побывав одно время на заседаниях приемной комиссии, смог убедиться, как шли без всяких затруднений в Союз потоком дипломаты, военные, международные журналисты. Одного комсомольского босса приняли за брошюру о членских взносах, кстати, вряд ли им самим написанную.
За этим буйным чертополохом реденькие кустики истинных художников не были видны, да их и не забывали, как я говорил, пропалывать, чтобы они не застили света своим кучным собратьям.
Может быть, когда-нибудь мы рискнем дать образцы этого соцреализма, ведь далеко не все помнят Панферова или Гладкова, или Бабаевского с Бубенновым… А ведь они — целая эпоха, они вершины этой «литературы». Не о такой ли литературе говорил Николай Гумилев: «Дурно пахнут мертвые слова»…
Так вот, я о СЛОВЕ.
Но не о мертвом СЛОВЕ, а о живом. Мертвечины, как говорят, вокруг хоть отбавляй, и запах трупный от тех разлагающихся слов еще не выветрился из Союза писателей.
Я не хочу вдаваться в нашу несчастную историю, я лишь о том, почему мы, интеллигенция, творцы, люди искусства и культуры, такими явились на свет, мы изначально еще в зародыше напуганы, и наша причудливо выкрученная, деформированная, будто в фантазиях художника Дали, душа не способна породить свободную литературу; мы же знаем, мы лишь догадываемся, что она такое.
Но мы всегда догадывались, а может и знали, что спасение придет через СЛОВО.
В сталинских лагерях, где еще оставались люди культуры, редчайшие драгоценнейшие представители серебряного века, такие, как Нина Ивановна Гаген-Торн, этим лишь одним могли выжить. В воспоминаниях о ней так и сказано: «Может быть, потому и не сошел наш народ с ума, что находил спасительное убежище в творчестве, в слове… И не в том ли печальная разгадка такой особой склонности нашей к литературе?»