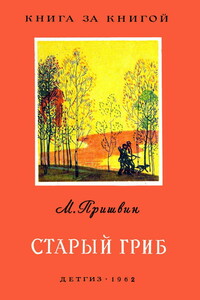Мирская чаша | страница 50
Фомка хлоп! – в него из нагана, хлоп! – другой раз, а Персюк все целится. Хлоп! – третий раз Фомка, и тут Персюк выстрелил, а Фомка нырнул в снег, показалась рука, показалась нога, и остался торчать, как свиное ухо, из снега неподвижно угол шубной полы.
– Что же вы это человека убили? – крикнул Савин.
– Собаку! – спокойно ответил Персюк и, вынув револьвер, прошел туда, вернулся, сказав: – Не отлежится.
– Человека убили?
– Кто такой, за книгами? Лектор, может быть?
– Лектор.
– И с высшим образованием?
– Учился, да что в этом теперь?
– Как что: гуманность.
Савин так и всколыхнулся от слова «гуманность» и, вытащив наконец в эту минуту пенсне, посмотрел через него в страшную рожу. «Вот, – подумал он, —крокодил, а тоже выговаривает „гуманность“!»
– У вас тут, – сказал он, – в прорубь мужиков окунают, морозят в холодном амбаре, а вы мне толкуете еще про гуманность.
– Не всех же морозим, – ответил Персюк, – злостного другим способом не проймешь (…)
– Ну и ошибаетесь.
– Не часто, а бывает, но без этого же и невозможно нам, а если человек встречается гуманный и образованный, радуюсь: вот был тут Алпатов, приятель мой, умнейшая голова, тот всякую вещь до тонкости понимал, пропал ни за нюх табаку.
– Как же пропал, – сказал Савин, – он в больнице и, кажется, поправляется.
– Помер, сам видел: на простыне выносили.
– Жив.
– Помер.
«Что же это такое? – думает Савин, продолжая свой путь в одиночестве по глубоким снегам. – Сейчас был тут громадный обоз, и нет никого, был Фомка, и нет его, и человек был такой заметный Алпатов, и никто даже хорошо не знает, жив он или в могиле: умер – не удивятся, жив – скажут: объявился. И даже если он воскресший явится, опять ничего, опять: объявился».
Поскорей же труси, лошаденка, выноси из этого страшного поля белого, где нет черты между землею и небом.
ЭПИЛОГ
И как все скоро переменяется, будто не живешь, а сон видишь. Давно ли тут вместе с Алпатовым в Тургеневской комнате привешивал на видное место даму с белым цветком и подбирал к старым портретам тексты из поэтов усадебного быта – теперь этого уже нет ничего. В Тургеневской комнате канцелярия Исполкома, в парадный зал переехал Культком, в колонной – Райком, в комнате скифа – Чрезвычком, в охотничьем кабинете чучела лежат грудой в углу, хорошо еще, книги уцелели, и то потому только, что ключ увез Алпатов с собою в больницу.
Позвали вора с отмычками, открыли шкаф, и Савин принялся разбирать и откладывать нужные ему книги. Секретарь кружка, Иван Петрович, все уговаривал поменьше книг увозить: «Не обижайте деревню!»