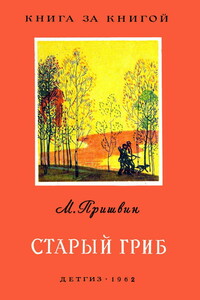Мирская чаша | страница 42
– Подумайте, что вы говорите, – сказал какой-то сознательный, – какое государство может существовать без оружия, где есть на земле такое государство?
– Есть такое, – отвечает стекольщик, – там люди живут, работают, пашут, скот разводят, торгуют, а воевать – нет! – махонькая страна такая.
– Финляндия?
– Ну хоть бы Вихляндия.
– Воюет!
– Ну, стало быть, не Вихляндия, а есть.
– Швейцария?
– Я говорю, есть такая страна, где не воюют, хотя бы самая махонькая Вихляндия, а есть.
– Сам ты Вихляндия, отвечай просто: двое дерутся на улице, что ты сделаешь, как остановишь?
– Скажу: не деритесь.
– А не послушаются?
– Другой придет: тут постепенность, один уговаривает, другой уговаривает, третий уговаривает.
– Был такой уговаривающий, ну что, уговорил?
– Так он уговаривал драться, а я чтобы не драться.
– После него тоже уговаривали, чтобы не драться, и чем кончилось?
– Это неправда, сами уговаривали, а сами оружие поднимали на капиталистов.
– Ну, ладно, пускай ты пришел и уговорил: ну, помирятся, один пойдет в подвал, другой во дворец?
– И хорошо.
– Капиталисты опять наживаться.
– Почему наживаться: ему, может быть, надо долги заплатить, разные бывают капиталисты.
– Расходитесь вы к черту! – кричит, надрываясь, милиционер. – Тут похороны, а не митинг, дорогу давайте, ну!
И замахнулся на женщину шашкой, только на одну, а их сто выскочило.
– Нонче и осьмушку не выдали. Свобода, свобода, а хлеба не дали, на черта нам ваша свобода!
– Иди на работу!
– Давай работу!
– Возьми, ты сама не идешь.
– Брешешь!
– Нет, ты брешешь, вы сидите, враг идет, а у вас дезертиры под юбкой.
– А у вас жиды в штанах. Ха-ха-ха! – в сто голосов.
– Ловко баба отрезала: жиды в штанах. Кто-то веселый вздумал искать дезертира у бабы, но вдруг Персюк на коне показался.
– Персюк, Персюк!
Все врассыпную, и сам Фомка впереди всех бежит.
Опять стало тихо на улице, два мещанина, один с завалинки, другой из калитки, переговариваются, и возле них Пелагея Фоминишна остановилась.
– Комиссар грохнулся!
– Подсолнух!
– Чего же народ шумит?
– Чего кричат, чего орут, – говорит Пелагея Фоминишна, – милые мои, сколько вы ни кричите, а служить кому-нибудь надо, я тридцать пять лет у господ жила, и никто меня не обидел, оттого что я себя знаю, я такая ведь: самовар согрела, чай засыпала, пока настоялся чай, я двадцать дел переделаю, кто с меня спросит, кто посмеет обидеть? Покойника несут, а они визжат, вот Егор Иваныч идет, спрошу-ка я его.
И того самого дьякона, что Алпатову капусту не выдал, спрашивает: