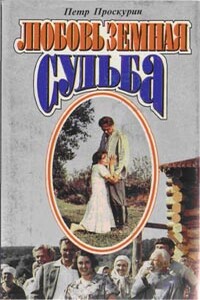Имя твое | страница 75
— И то, Нюр! Провались они, эти часы! — смахнул Фома пилотку в каком-то жгучем, непереносном порыве счастья. — Я сейчас и эти расколочу к чертовой матери, да что мы, не проживем?
Нюрка едва успела перехватить руку мужа, решительно отобрала часы, завернула в тряпицу и сунула их подальше с глаз. Про себя она даже восхитилась его мужской удалью, но вслух решила проявить благоразумие.
— Чего зря добром-то швыряться? Что ж мы, ай глумные какие? — пожала она широкими плечами. — Пошли, пошли, там небось девки уж стол собрали… соседей позвали…
Фома одернул гимнастерку, весь подобрался, как при вызове к командиру, мельком вспоминая, как наткнулся, вьюном переползая какие-то развалины, на эту коробку с часами и какую борьбу вынес сам с собою, придумывая для часиков такой замысловатый ход почти из-под самого Берлина до Густищ, в обход строгому военному закону насчет всякого трофейного имущества; запоздало раскаиваясь, осуждающе крякнул и пошел, слегка косолапя, — годы войны так и не смогли выправить его тяжеловатой крестьянской походки.
Подвыпив вечером, Фома с волнующими прибавками сам рассказал об истории с часами собравшимся односельчанам; те поохали, посмеялись и забыли, другие, более важные дела интересовали людей в первый послевоенный год, и только Варечка Черная, встречая Нюрку, всякий раз всплескивала руками: видано ли дело — мыло в город нести, его бы и в селе за милую душу разобрали, напоминала она, гляди, добро бы у своих людей и осталось. И всякий раз добавляла, что она сама бы первая пару кусочков с руками отхватила, ни за какими деньгами не постояла.
10
Пожалуй, самым трудным было для густищинцев лето сорок шестого года. Словно до конца испытывая выносливость человеческой породы, на землю, изрытую окопами и воронками, опутанную сотнями километров проволочных заграждений и нескончаемыми минными полями, обрушилась невиданная засуха; уже к концу мая начали выгорать травы и посевы, в начале же июня рожь, едва-едва успевшую до времени выметнуть чахлый колос, перехватило мертвенной блеклостью у корня, и через несколько дней бесплодный, так и не набравший двух-трех зерен колос зачах, пусто заполоскался под знойными суховеями над потрескавшейся на метр в глубину землей. К концу июня даже в низинах и на болотах, стали буреть, сохнуть и выгорать травы; зной изнурял птицу, скотину и людей, даже тракторные плуги не выдерживали, рвала их затвердевшая в камень земля; много повидавшие старики первыми почувствовали призрак голода, нового тяжелого лихолетья. Дед Макар, самый старый в Густищах, всерьез засобирался теперь умирать и трижды ходил к председателю насчет досок себе на гроб; он хотел, чтобы доски были непременно сосновые, легкие, душистые, чтобы они не давили на дыхание и на грудину, со стариковской обстоятельностью пояснил дед Макар; замотанный сверх всякой меры засухой и всяческими другими неурядицами, Куликов ошалело моргал на деда Макара, выслушивая его неразборчивые, длинные рассуждения в похвалу душистой сосновой доске.