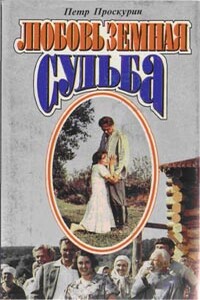Имя твое | страница 56
— Поешь еще, посиди, Тихон Иванович, ослобони ты себя хоть немного. Аленка вон пишет, продыху себе не даешь.
Брюханов кивнул, закурил; заметив взгляд Егора, брошенный на папиросы, спросил:
— Куришь?
— Смолит, смолит, смолокур, — недовольно подтвердила Ефросинья. — Уж угости его, Тихон Иванович, за порог ступит, все равно задымит.
— Дело въедливое, затягивает, — заметил Брюханов, подвигая портсигар. — Рановато вроде, а, Егор? Николая я отучил кое-как, тебе тоже бы бросить, к чему с этих пор?
— Привык, — коротко и просто сказал Егор, взял папиросу, прикурил и, что-то пробормотав неразборчиво — не то «спасибо», не то «подумаю», вышел.
— — Уж теперь поздно, вон вымахал, — вздохнула ему вслед Ефросинья. — Теперь с ним не сладить, без батьки вырос, куда уж бабе с парнем справиться. Порода мужичья свое возьмет. Смолит — это еще ладно, тут у нас подряд, как от груди оторвался — и потянул цигарку в рот. С Митькой вон, партизаном, связался, водой не разольешь. А тот кому хочешь голову открутит… и обратной стороной приставит. С новым председателем с самого начала на ножах… и Егора затягивает. — В ее построжавших глазах пробилась тревога. — И то! — спохватилась она. — Что это я к тебе со своими болячками… Лучше расскажи, Тихон Иванович, как вы там?
— Потихоньку, Ефросинья Павловна, живем. — Брюханов загасил папиросу. — Аленка в институте, в клинике пропадает, практика у нее. Дома почти ее и не видим. Коля парнишка одаренный, быстрый, проницательный, схватывает все на лету. Думаю, далеко ушагает…
Ефросинья затихла, тихонько сложила руки на столе, о детях она могла слушать без конца; Брюханов рассказал ей о поездке Николая в Москву, на математическую олимпиаду, и как его потом в числе семи человек оставили на коллоквиум, на собеседование (не уговариваясь, они сейчас больше говорили о Николае), и Ефросинья, по-детски изумляясь, ахала, а под конец всплакнула. В ней сейчас проскакивали и какие-то свои, не относящиеся к разговору мысли, но они, эти отблески прошлого, были связаны с прожитой жизнью, от них некуда было деться, и Брюханов, увлекшись разговором, не подозревал, какая борьба идет сейчас в душе Ефросиньи и что она сейчас переоценивает, может быть, всю свою жизнь, и особенно тот памятный вечер, когда, когда…
— А-а, что тут! На всякую хворобу свое зелье имеется, — неожиданно сказала она глухо, отвечая самой себе на какие-то свои тайные мысли; сейчас Брюханов не мог различить в этой тихой, всегда ровной женщине мать Аленки, ему казалось, что они слишком чужды друг другу, чтобы быть хотя бы в каком-то, даже отдаленном, родстве.