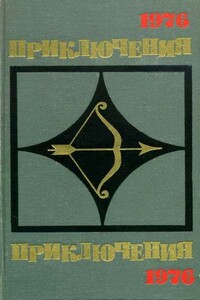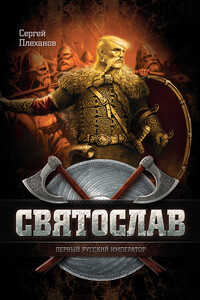Писемский | страница 77
В начале сентября 1850 года издатель «Москвитянина» Погодин получил от своего молодого сотрудника рукопись Писемского. И уже через два месяца повесть появилась в журнале. Первый гонорар был назначен по 20 рублей за лист. Не очень-то расщедрился прижимистый Михайло Петрович. Но автор и тому был рад – помилуйте, отхватить зараз 250 целковых! Да иной чиновник два года будет за такие деньги горбиться. Это потом, лет через восемь, когда ему станут платить по две сотни и больше за лист, Алексей Феофилактович себе настоящую цену узнает...
«Тюфяк» – вот какое название из нескольких предложенных автором выбрал Погодин. И пошла гулять эта повесть по широкой Руси. Много дал бы, наверное, автор ее, чтобы заглянуть в души русских юношей, до черноты зачитывавших те номера «Москвитянина», где была помещена история неудачной женитьбы Бешметева. Успех превзошел самые смелые ожидания Алексея Феофилактовича.
Критика дружным хором произносила хвалы новому дарованию.
Самые солидные издания поместили рецензии на «Тюфяка». Рдея от гордости, Алексей Феофилактович прочел в «Библиотеке для чтения»: «Писемский с первого шага попал на настоящую дорогу, и потому мы вправе ожидать многого от его таланта. Писемский высказался не в тесной рамке какого-нибудь быта, но в воспроизведении самых разнообразных и противоположных явлений общественной жизни... В произведении г.Писемского нет пристрастия к тому или другому лицу; он не увлекается нравственными преимуществами одного лица перед другими, не возвышает одних в ущерб другим, но с беспристрастием художника, поставившего себе целью быть верным природе, воспроизводит каждое из них со всею искренностью и чистотою таланта...» «Современник» выразился не менее благожелательно: «В повести г.Писемского на первом плане – характеры. И посмотрите, что это за живые лица! Каждое из них мы видели, кажется, где-то; о каждом из них слышали где-то, и с большею частью из них был знаком каждый читатель в своей жизни... Написана повесть языком бойким и живым, полна наблюдательности и отличается светлым взглядом автора на предметы. Во взгляде этом столько ума, столько неподдельного, практического здравого смысла, что автору безусловно во всем веришь и желаешь только одного – чтобы он писал больше и больше...»
Да и было отчего прийти в возбуждение – оказывается, в его лице нежданно-негаданно объявился вполне зрелый мастер с каким-то совсем небывалым взглядом на вещи. Правда, Писемскому казалось, что критика не сумела определить вполне точно его замысел, но правильно почувствовала его отрицательное отношение ко всяким формам идеальничанья. Смущало Алексея Феофилактовича и то, что его поспешили зачислить в отрицатели, в партизаны натуральной школы. А он вовсе не сходился с ними, ибо отрицатели, показывая несправедливость, тем самым вопияли против нее, романтически оплакивали ее действительных или мнимых жертв.